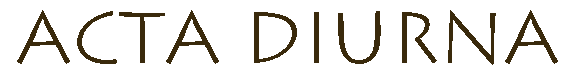 |
VENICE IN FILM: THE POSTCARD AND THE PALIMPSEST
by O'Rawe, Des
Венеция в фильмах: глянцевая открытка и ее подтекст
дэ О’Ро
Перевод А. Евдокимовой.
Source: Literature Film Quarterly, 2005 by O'Rawe, Des //
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3768/is_200501/ai_n15348527
|
The popularity of Venice as a film location is unremarkable. Venice offers a setting synonymous with the architectural and cultural achievements of western civilization. For this reason Venice is also a cliche-a museum without walls that no one needs to visit. But of course everyone does visit Venice; it has always been a city of visitors and will remain so until floods, fires, and the final corruption of its foundations overwhelm it. In the meantime, the physical vulnerability of Venice only adds to its quasi-mythical status as city and symbol, place and metaphor. While numerous general and author-specific studies have been published that explore literary Venice, less attention has been paid to cinematic portraits of this "queen of cities" or, indeed, to the significance of Venice to the broad concerns of film adaptation studies.1 Venice offers a fascinating context within which we can explore many of the cross currents that flow between literary and filmic representations of '. places and cities. This essay examines the configuration of generic modes and aesthetic forms in the work of various American and European directors in relation to this and other issues. Needless to say, many of these filmmakers have themselves discovered that screening Venice involves an encounter with the most formidable fictions and fantasies of western civilization. The cinema has responded to the peculiar "improbability" of Venice in a variety of ways. There is a touristic vision of Venice, a vision that lingers adoringly on the luminous elegance and majesty of the quintessential European city of culture. This is usually the Venice of the Hollywood romance: a magical, musical utopia of heterosexual happiness and harmless irony. There is also a cinematic representation of Venice that derives its forms and thematic concerns from the ambiguities, excesses, and transgressions of a very different sensibility. Within this category, Venice's opulence disintegrates amidst spiritual decadence and death; its cathedrals and languid canals, piazze and palaces, are transformed within a narrative structure and Gothic mise en scene that serves to annihilate light, movement, space, and possibility. Finally, the cinema also has offered a more modernist vision of Venice; this is the Venice of Orson Welles's Othello (1952) and Luchino Visconti's Death in Venice (1971). In these films, Venice ceases to exist in any denotative sense, becoming instead a state of mind: not so much a place as a cinematic palimpsest of desire, decay, and death. In Othello and Death in Venice the location loses its locality as the modernity of the cinema subdues the recalcitrant antiquity of the lagoon city. Within popular cinema, Venice, like Paris and Rome, has often signified a theatre of romantic possibility and cultural sophistication. American romantic dramas and comedies like Tonight or Never (LeRoy, 1931),Mambo (Rossen, 1954), The Honey Pot (Mankiewicz, 1967), Blume in Love (Mazursky, 1973), and even Woody Alien's Everyone Says I Love You (1996) and Rob Reiner's The Story of Us (1999), deliberately deploy Venice as little more than visual shorthand for an en passant, picturesque Europe. One of the more interesting examples from this genre is David Lean's Summertime (also known as Summer Madness, 1955), a film that depicts a "brief encounter" between a naпve Ohio spinster-Jane Hudson (Katherine Hepburn) -and a suave, disingenuous, Venetian antique dealer-Renato de Rossi (Rossano Brazzi). Hudson's fantasy of a romantic ("European") liaison that will last forever is as uncomplicated as it is unattainable, and Summertime freely disassociates the psychological complexities of its narrative from the impressionistic unreality of its mise en scene. If Summertime exemplifies anything, it is surely David Lean's fatal weakness for compositional excess, a disposition that is emphasized in this particular film by the kitschy Eastman-coloring of Jack Hildyard's cinematography [3]. In this regard, it can be instructive to compare the Venice of Summertime with its representation in Joseph Losey's Eve (also known as Eva, 1962), which was shot in black and white. Although the thematic scope of Eve (its portrayal of guilt, narcissism, and obsessive desire) differs markedly from the more innocently moralistic concerns of Summertime, Eve-from its opening shots of the Piazza San Marco-also remains nostalgically captivated by the surface splendors of Venice. There is obvious disparity between Eve's existential subject matter and its oddly conventional, and even romantic -Losey preferred the word "baroque"-depiction of Venice.2 The other principal location in Eve is Rome and neither of these settings emerges as a particularly bright visual correlative to Stanley Baker's angst and Jeanne Moreau's callous sexuality. Like Lean, Losey had a tendency to overindulge in facile symbolism and the textural density of his images, as in his other European films from this period (for example, Modesty Biaise [1966] or Boom! [1968]), can now seem overwrought and pretentious. Losey's Venice is comprised largely of pristine monuments, translucent water, ornamental interiors, and all manner of objets d'art that accompany, rather that comment on, the unfolding psychological drama. Losey himself conceded that he had been unable to contain and control the mise en scene in this film: "If I were remaking the film I would, I'm sure, use these things differently or perhaps not use them at all. I tried to get more into Eve than should be put into one film."4 To view Venice in films like Summertime and Eve is to view a background that is refusing to become a foreground, a location that has not been dislocated from the domain of touristic fantasy. While Eve and, to a lesser extent, Summertime are "serious" films, the cinematic function of their Venice settings remains cosmetic rather than hermeneutic. Within more recent mainstream cinema there also has emerged a Venice derived from American literature's habitual interrogations about differences between European culture from American one. Two notable examples from this tendency are The Wings of the Dove (Softley, 1997) and The Talented Mr. Ripley (Minghella, 1999), based on novels by Henry James (1909) and Patricia Highsmith (1955), respectively.5 Both novels examine the idealization of Venice and, a fortiori, the idealized notion of America's cultural independence from Europe.6 In James and Highsmith, the tour of the European elsewhere is also a return to the origins of modern America, a return to that arena of masks and deceptions, excess and degeneration, that the "Founding Fathers" had hoped to banish from their brave new world of rational democracy and enlightened citizenship. The first reality of any "postcolonial" experience is the impossibility of absolute independence, and the United States has always found it impossible to reinvent itself without also reinventing its relationship to Europe. James's and Highsmith's vision of "American Europe" is nothing if not account of the ironies and contradictions that continue to characterize this very Oedipal relationship. Interestingly, Softley (and screenwriter Hossein Amini) chose to deemphasize this motif when adapting The Wings of the Dove, preferring instead to create a Venice that owes more to eighteenth- and nineteenth-century English fantasies than to the intercultural subtleties of James's story. The Talented Mr. Ripley similarly deploys a radiant, "heritage" image of Venice. Although Minghella's film used numerous Italian locations, including Rome and Naples, its cinematographic construction of Venice is a wash of glamour and sensuality. It might be suggested that the significance of such an excessively stylized construction of Venice in The Talented Mr Ripley is ironic rather than iconic. In other words, this film's Venice (its "Europe") is rendered as a paradise of the civilized in order to intensify the darkness of Ripley's motives and the obscenity of his actions. This may have been the intention but to adapt an assertion from another elsewhere: form in contemporary Hollywood cinema tends to embellish content rather than create it. The Italian locations in The Talented Mr. Ripley are successful in a scenic rather than a filmic sense. Each functions as a view of a view: deceptions, delusions, and desires belong to protagonists rather than to the place itself. Ultimately, Minghella's lavish compositions and smooth transitions obscure the dagger behind the dazzle. Indeed, the extent of this effacement of intellectual substance by pictorial cliche is all the more apparent when one contrasts Softley's and Minghella's Venice films with another literary adaptation from this period, Paul Schrader's The Comfort of Strangers (1990); a film that does succeed in giving its Venetian location a symbolic resonance that established a more direct relationship between the touristic innocence of the New World and the decadent habits and hierarchies of the old.7 In Schrader's film, the doomed representatives of this "New World" are a (very) English couple, Colin (Rupert Everett) and Mary (Natasha Richardson), who have returned to Venice in order to negotiate a future for their relationship: "Why did we come?" asks Mary; "To find out what to do about you and me," replies Colin. The couple's first experience of tourist pleasure and romantic intimacy is secretly photographed ("captured") by an immaculate personification of Old World viciousness, Robert (Christopher Walken). Schrader's set (and Angelo Badalamenti's score) accentuates the Eastern aspects of Venice, its Byzantine strangeness and uncanny exoticism. The lighting, especially during the nighttime sequences, is rich and expressionistic but with some surreal inflections (neon signs that indicate absence and a fluorescent blue shop window inhabited by mannequins). Lost in Venice, Mary and Colin stumble through its maze of streets and arches only to be accosted by the mysterious Robert, who insists on being their guide. He keeps his word, in a manner of speaking, and guides them to the ritual slaughter of Colin. In The Comfort of Strangers the characters and the Venetian sets (in particular, Robert's opulent palaua) connect symbolically and the vulnerability of Mary and Colin increases amidst the strange, sadistic, and ultimately murderous designs of Robert and his wife, Caroline (Helen Mirren). Throughout the film, the tones, textures, and spatial dynamics of Schrader's Venice engage fluently with Harold Pinter's screenplay, with its meticulously measured fades, hesitations, and silences.8 However, Pinter's achievement here is not solely poetic. In adapting McEwan's novel for cinema, Pinter chose to emphasize a mise en scene that would fully dramatize the sinister otherness of Venice. Schrader, it has to be said, is one of the few contemporary directors capable of responding sensitively to Pinter's language. Indeed, Schrader himself has commented that realizing Pinter's screenplay for The Comfort of Strangers was an act of gradual fulfillment rather than one of typical frequent defilement, and an important filmic consequence of this fortuitous partnership is the extensive deployment of tracking and zoom.9 Desperate to retrieve an itinerary that is both practical and emotional, Colin and Mary are not so much disorientated by Venice as re-orientated, by its invisible currents, toward catastrophe. The movements of Schrader's camera make these "currents" visible as we watch the doomed couple being watched, followed, and watched again. This reflexive device intensifies our own voyeuristic involvement in the action and creates a Venice that refuses to release Colin and Mary from a panoptical nightmare. In the closing sequence of the film, Mary is brought to the mortuary to identify Colin's corpse. Before leaving, she caresses his hair; a gesture that finally breaks the spell cast by this cruel city and reconnects her (and us) to the reality of subjectivity. Schrader's film seems to share much with Don't Look Now (1973), Nicolas Roeg's adaptation of Daphne du Maurier's novella. Both films weave their narratives around the "couple in crisis" motif and culminate in the "inexplicable" murder of the male character. Both films explicitly subvert Venice's touristic image: Venice becomes a place where it is better to be lost than to be found. Just as the primacy of the tourist gaze in The Com/on of Strangers becomes displaced by the looks, whispers, and intrigue (the indigenous gaze) of those around them, so too in Don't Look Now "the Venetians always have their eyes on Laura and John [... and] they never, ever, say anything [...] it is as if they know something we do not and are keeping out of trouble, experts at turning the cold shoulder." 10In the other films discussed in this essay so far the Venetians, when not invisible, have been characterized as either idiosyncratic or indifferent. However, in both the Schrader and Roeg films, the city's denizens become crucial to the sinister otherness of the place: accomplices in the tragedies that afflict the visitors. The Venice of Don't Look Now is a wintry place, both literally and metaphorically, and although not entirely devoid of sunshine, it is noticeably devoid of tourists. Its labyrinth of narrow streets and alleys, empty bridges, and still canals are made all the more sepulchral by the film's extensive gray-blue color palette, a palette that of course also emphasizes the drama of red 11. This expressive use of color, along with its montage irregularities and elaborate narrative structure, amplifies the film's broader concerns with death, memory, and the paranormal. Essentially, Don't Look Now is a Gothic-horror film and its modernist inclinations do not fundamentally undermine these generic qualities. Nevertheless, Don't Look Now remains a disturbing and visually enthralling film. In this respect, the expressive involvement of Venice in the unfolding drama, the ways in which it is constructed both objectively and subjectively within the mise en scene, are often both affective and intelligent: "Almost all the shots of Venetian sites-of canals, shutters, or windows-play with the problem of vision through a combination of light and reflection."" Don't Look Now is a film about "seeing" without looking, about the blindness of reason in a world of premonitions, intimations, and prophesies. Ultimately, this vision of Venice is a graveyard of desire, a threshold to the underworld, a city of death and the city as death: "it is not so much a matter of death in Venice as that death which is Venice."12In eschewing the reproduction of a picturesque ("postcard") version of Venice, Don't Look Now, like The Comfort of Strangers, also reminds us that the cinema has not always been blind to the fatal beauty and palimpsestic complexity of this city. Welles's Othello and Visconti's Death in Venice, for example, do not so much represent Venice as evoke its symbolic topography: much of Othello was shot at various locations in Morocco and Italy, and most of Death in Venice takes place on the Lido. The shooting-schedule for Welles's film was interrupted on at least three different occasions and lack of funding was a constant problem.13 Despite its unfortunate production circumstances, Othello is a remarkable cinematic achievement, easily on a par with Touch of Evil (Welles, 1958) and The Trial (Welles, 1963). Interestingly, Othello's mode of production goes some way toward explaining its fragmentary and elliptical mode of representation. Although Welles did not significantly alter the Othello fabula, he did create a film adaptation that is still radical in terms of the visual dynamics of its shots and montage procedures. Unlike Macbeth (Welles, 1948), which was based on a theatrical production, Othello eschews theatricality and perceptual objectivity in favor of an expressionistic rendering of subjective and social disintegration. The rich symbolism of Venice becomes essential to Welles's drama of space and entrapment, desire and deception: Thanks to the swift and jagged editing and camera angles (which eliminate any possibility of linking up the elements of the decor in the given space, either visually or mentally), Welles [...] created out of the stones on Venice and Mogador an imaginary dramatic architecture, but one enhanced by all the magic, all the composed and accidental beauties that natural stone alone can have in true architecture, weathered by centuries of wind and sun.14 The "imaginary architecture" of Venice, in a film that derives its dramatic power and meaning from the "imaginary" and the significance of "nothing," also is enhanced by Welles's extensive use of offscreen space and sound. Welles's film opens with the funerals of Othello and Desdemona, which take place in Cyprus, along a wild, blustery shoreline. The funeral is an epic affair, filmed in a style not unreminiscent of later Eisenstein. This sequence also includes the punishment of Iago, who is left to survey the tragedy he has engineered from a cage dangling from the fortress parapets. Indeed the cage is the film's dominant visual motif: entrapment is all. The film's title appears, and a voice-over is quickly displaced by a medium shot of the robed figure of Othello sweeping across the foreground toward a waiting gondola, which carries him to Brabantio's house. Desdemona runs behind an array of gothic columns and rococo railings to the balcony, and a wide, low-angle shot suddenly unveils the magnificently facade of the house, with the barely visible figure of Desdemona waving from a balcony. She descends the stairway, a white form flickering behind a dense trellis of columns, arches, and railings. A long shot briefly shows her stepping into the arms of Othello before the hooded head of Iago appears in the foreground to obscure our view. A short series of dissolves clarify to another long shot of Othello and Desdemona at the altar of a church before the silhouetted head and shoulders of Iago re-emerge to again obstruct our view. The lovers step out into the street, watched secretly by Iago and Roderigo, before the gondola spirits them away along a dark, narrow canal. This sequence was shot in Venice and is illustrative not only of the ingenuity of Welles's editing but also the importance of Alexandre Trauner's decor (inspired by the work of the Venetian painter Vittore Carpaccio [circa 1450-1525]) and Francesco Lavagnino's score, with its distinctly Eastern inflections created by mandolins and various percussion effects. That the funeral and the marriage scenes do not appear in Shakespeare is beside the point, although the way in which Welles alchemizes the poetic textures of Othello's language into a visually distinctive filmic discourse is still impressive by any standards. Superficially, Cyprus is the domain of conflict, a world where deceptions and imagined betrayals fester in the natural light of siege and combat, while Venice seems civilized and protective of its favorite general. And yet, as this early sequence illustrates, the entrapment and deaths of Othello and Desdemona are foreshadowed in the first images of Venice: if Othello could see Venice as we see it, he would certainly know his fate. Welles's Venice is in fact world of disappointed possibility: its spaces are fragments that can never cohere. Regardless of its variety of locations, ad hoc revisions, and enforced modifications, Welles's film offers a vision of Venice that is not only metaphorically rich but also quintessentially cinematic. One only has to compare Welles's Othello with Oliver Parker's 1995 adaptation of Othello, for example, to appreciate the sublime complexities of Welles's filmic constructions of place: "As for Parker's treatment of Venice and Cyprus, there is no attempt to lend symbolism to the geographical locales, he shots of Brabantio's apartment, St. Mark's Square and the Doge's palace seem indeed to be naturalistic backdrops that could serve as photo opts for modern day tourists."15 Just as Othello's entrapment motif is represented visually by montage sequences of distorted and partitioned compositions, a style that alchemizes the taut rhythms of Shakespeare's language into film images, so too Visconti's use of the zoom, in Death in Venice, echoes cinematically Mann's free indirect prose: "the zoom is rigidly limited, since it can only move in and out [...] the choice of the zoom suggests that Aschenbach is trapped in his stifling reserve."16 Aschenbach and Othello, the artist and the soldier, both believe in a Venice that is amenable to their quests for beauty and love. Finally, Othello's tragedy is made complete by the reality of political vulnerability, while Aschenbach's mind corrupts amidst the decadence of everything. As in Othello, the first images of Venice in Visconti's film disappoint the myth and prefigure the ensuing devastation: From the beginning of [Death in Venice] the black smoke of the vaporetta, with its silent and dreamlike motion, is a bad omen reinforced by the slow entrance into Venice. The traditional vision of golden palaces, blue sky, and polychromatic marbles is replaced by a view of a city buried in fog and humidity. In this swaying liquid world the gondolas, usually a romantic means of transportation, are funereal black silhouettes on the murky waters of what Mann called "the most improbable of cities." Its ambiguity encircles Aschenbach, who, from the very beginning, has lost control of his destiny, while the local characters, with their smirks and sly glances, seem to "know" already.17 Throughout Death in Venice the past inundates the present, a past that is literary (Mann), pictorial (Renaissance art), photographic (late nineteenth century), theatrical (commedia dell'arte), and musical (Mahler's adagietto). Like Aschenbach's deranged recitation from Plato's Phaedrus, these fragments are always, and only, fragments. The present will not cohere and Venice, especially the Venice of the Lido and the (neoclassical) hotel des Bains, offers only glimpses, glances, of beauty. Aschenbach is overwhelmed, annihilated, not simply by obsessive desire but by an environment that possesses the power to carry an obsession to its fatal conclusion. In Venice, the gap between the inner consciousness and the external world widens to infinity, to madness and death. Visconti charts this fatal voyage, lamenting in the process the deaths of other dreams, destinations, and achievements-the other Venice. The intense modernism of Death in Venice seems in contrast to the lavish historical sets, and melodramatic density, of his other Venice film, Senso (1954). Yet, Visconti's signature style, and his "theatrical" vision of the cinema-particularly in relation to the question of melodrama-is always difficult to categorize. Both films dramatize the perilous intercourse between performance and immanence and both associate Venice with the tragedy of desire (although Death in Venice obviously explores this condition in a much less "public" and historical way than Senso). The expressive coloration of Venice in Senso also seems to anticipate Death in Venice: "[In Senso] Venice by day is pastel and insubstantial, like a water colour [...] by night it has a tonality which is prevailingly blue."18 For all their apparent differences, the Venice of both Visconti films is still, fundamentally, a realm of artifice and disappointed idealism, excess and decay.19 In Italo Calvino's Invisible Cities, Marco Polo describes all the cities that he has visited to Kublai Khan. As their dialogue develops, Polo reveals that all of these cities are Venice-his home-and that now he fears that he will forget Venice: "Perhaps I am afraid of losing Venice all at once, if I speak of it. Or perhaps, speaking of other cities, I have already lost it, little by little."20 What distinguishes the Venice films of Visconti and Welles, from those of a Roeg or a Schrader, is their commitment to the adaptation of forms and the creation of visual situations that wholly penetrate the veneer of Venice. Ultimately, Othello and Death in Venice are cinematic testaments to the improbability of "places" and the perpetuity of quests. They do not fear the loss of Venice because they know that it is already lost. And it is this knowledge that enables a rebirth of Venice-"little by little"-in the moment of cinema.21
Notes . 1 Tony Tanner's book Venice Desired, for example, offers an authoritative and engaging treatment of literary Venice. Martin Garrett's Venice: A Cultural and Literary Companion is a particularly useful introductory guide to more general issues, and Venetian Views, Venetian Blinds: English Fantasies of Venice, ed. Manfred Pfister and Barbara Schaff, contains a range of essays on specific writers and artists. Regis Debray's Against Venice is also necessary reading. 2 "I think Eve was a properly baroque film [...] because it was dealing with a baroque city, a baroque period, and essentially a baroque group of characters," Losey, qtd. in Losey on Losey, ed. Tom Milne, 56. The tribulations and personal traumas that surrounded the production of Eve are deftly chronicled in David Caute's excellent biography of Losey, Joseph Losey: A Revenge on Life 155-64. For some discussion on the postproduction mutilation of Eve, see Milne 56-59 and Geoff Gardner's "Unkind Cuts: Joseph Losey's Eve." 3 Interestingly, Jack Hildyard was also the cinematographer on this production. 4 Milne 39. 5 Rene Clement's Plein Soleil/Purple Noon (1960) is also an adaptation of The Talented Mr Ripley. For a succinct discussion of The Wings of the Dove and film adaptation, see Robin Wood's The Wings of the Dove 7-9. 6 For a discussion of Henry James's Venice, see Tanner 157-209 and Hugh Honour and John Fleming, The Venetian Hours of Henry James, Whistler and Sargent. 7 For some insight into Schrader's views on this issue, see Harlan Kennedy's 'The Discomforts of Schrader" 54-55. See also Schrader on Schrader 199-206. 8 See Steven Gale's Sharp Cut: Harold Pinter's Screenplays and the Artistic Process 322-36. For a discussion of the key rhetorical features of this adaptation, see Charles Forceville's 'The Conspiracy in The Comfort of Strangers: Narration in the Novel and the Film" 119-35. 9 Gale 331-36. 10 Mark Sanderson, Don't Look Now 29-30. 11 Sabine Schulting, '"Dream Factories': Hollywood and Venice in Nicolas Roeg's Don't Look Now," in Venetian Views, Venetian Blinds 207. Schulting's analysis of the ways in which Don't Look Now subverts the conventions of classical Hollywood cinema is comprehensive although her conclusion (that its cinematic style embraces Deleuze's "crystalline regime") is unconvincing. 12 Tanner 358. 13 The various crises that afflicted Welles's Othello project are described memorably in Micheal MacLiammoir's Put Money in Thy Purse. Further insights and reflections can be found in Welles's and Peter Bogdanovich's This is Orson Welles 222-32. Welles also discusses the making of Othello in a 1978 documentary titled Filming Othello-his last complete film. 14 Andre Bazin, Orson Welles: A Critical View 114. 15 Robert F. Williamson, Jr., "Strange New Worlds: Constructions of Venice and Cyprus in the Orson Welles and Oliver Parker Films of Othello" 38. The expressionist style of Maurice Tburneur's neglected masterpiece Volpone (1941) might also be interesting to consider in relation to Welles's film. 16 Michael Wilson, "Art is Ambiguous: the Zoom in Death in Venice" 153-58. 17 Claretta Micheletti Tonetti, Luchino Vtsconti. 18 Geoffrey Nowell-Smith, Luchino Visconti, 3111 ed. 72. 19 Indeed, the ways in which Venice has been configured within the Italian cinema itself offers scope for a discussion that might include some analysis of Identification of a Woman/Identificazione di una donna (Antonioni, 1982), Casanova (Fellini, 1976), and any number of Tinto Brass films or even the oddly engaging Nosferatu in VenicelNosferatu a Venizia (Caminito, 1988). 20 Italo Calvino, Invisible Cities 87. 21 An earlier and shorter version of this essay appeared in Film and Comment, 2, 2003 (Waterford Institute of Technology, Rep. of Ireland).
|
В популярности Венеции как места для съемок нет ничего необычного. Этот город предлагает окружающую обстановку, ассоциирующуюся с архитектурными и культурными достижениями западной цивилизации. Таким образом, Венеция также является своеобразным музеем клише, музеем без стен, который нет надобности осматривать. Но, безусловно, каждый стремится посетить Венецию; это всегда был город гостей и останется таковым пока потопы, пожары и гниение фундамента окончательно не погубят его. Тем временем, физическая уязвимость Венеции только усиливает ее квази-мифологический статус как города-символа, реального места и метафоры. В то время, как были опубликованы многочисленные общие и специальные авторские исследования, анализирующие Венецию в литературе, меньше внимания уделялось кинематографическим портретам этой "королевы городов" или, по сути, не учитывалась важность Венеции для обширных интересов киноисследований [1]. Венеция предоставляет замечательный контекст, в рамках которого мы можем изучать многочисленные пересекающиеся течения, которые возникают в литературных и кинематографических изображениях мест и городов. Это эссе рассматривает структуру общих методов и эстетических форм в работе различных американских и европейских режиссеров в отношении вышеупомянутого и других аспектов. Излишне говорить, что многие из этих режиссеров открыли для себя во время съемок в Венеции, что в ходе работы здесь вовлекаются, случайно стыкуются наиболее значительные легенды и фантазии западной цивилизации. Кино отражает специфическое "неправдоподобие", "призрачность" Венеции разными путями. Есть туристическое видение Венеции, видение, которое восхищенно останавливается на блестящей изящности и величественности наиболее типичного ("квинтэссенциального") города европейской культуры. Это обычно Венеция голливудских романтических историй: волшебная, музыкальная утопия, полная гетеросексуального счастья и безобидной иронии. Существуют также кинематографические образы Венеции, которые черпают свои формы и тематическую направленность исходя из двойственности, эксцессов и нарушений в самых различных смыслах. В рамках этой категории, роскошь Венеции разделяет пополам духовный упадок и смерть; ее соборы и медлительные каналы, площади и дворцы преобразовываются в рамках повествовательной структуры, готические мизансцены служат для устранения света, движения, пространства и возможности чего бы то ни было. Наконец, кино предлагает более модернистский взгляд на Венецию, это Венеция Орсона Уэллса в "Отелло" (1952) и Лукино Висконти в "Смерти в Венеции" (1971). В этих фильмах, Венеция перестает существовать в любом из обозначенных смыслов, становясь вместо этого состоянием души: это больше не место скрытого кинематографического подтекста страсти, упадка и смерти. В "Отелло" и "Смерти в Венеции" место теряет свою "местность", локальность, поскольку современная кинематография смягчает непокорную классическую старину города-лагуны. В популярном кино Венеция, равно как Париж и Рим, часто играет роль площадки для возможной романтической встречи и изображения культурной утонченности. В американских романтических драмах и комедиях, таких как "Сегодня ночью или никогда" (ЛеРой,1931), "Мамбо" (Россен, 1954), "Горшок меда" (Манкевич, 1967), "Влюбленный Блюм" (Мазурски, 1973) и даже "Все говорят, что я люблю тебя" (Вуди Ален, 1996) и "История о нас" (Роб Рейнер, 1999), Венеция сознательно изображается как место немногим большее, чем условное место для прогуливающихся зевак, чем живописная Европа. Один из наиболее интересных примеров фильмов этого жанра "Летняя пора" (также известного как "Летнее безумство", 1955), фильм, который рисует "короткую случайную встречу" между наивной старой девой Джейн Хандсон (Кэтрин Хэпберн) и обходительным, изворотливым торговцем венецианским антиквариатом - Ренато дэ Росси (Россано Брацци). Фантазии Хандсон о романтической ("европейской") любовной связи, которая продлится вечно, настолько просты, насколько же и недостижимы, и "Летняя пора" свободно отделяет психологические сложности в повествовании от импрессионистической нереальности мизансцен фильма. Если "Летняя пора" и может служить примером чего-либо, то это безусловно пример роковой слабости Дэвида Лина в сфере перегрузки композиции, соотношении частей, которое особенно подчеркивается в этом фильме вульгарной Истмэновской раскраской ленты, выполненной киностудией Джэка Хилдьярда [3]. В этом отношении, может быть полезно сравнить Венецию "Летней поры" и Венецию "Эвы" Джозефа Лоузи (1962), снятой на черно-белую пленку. Несмотря на то, что тематический спектр "Эвы" (изображение вины, нарциссизма и навязчивого желания) заметно отличается от более невинных моралистических вопросов, которые затрагиваются в "Летней поре", "Эва" - с начальных кадров площади Сан Марко - также остается в ностальгической власти пышной обстановки Венеции. В "Эве" очевидно несоответствие между изображаемой экзистенциальной проблемой и до странности условным, даже романтическим - Лоузи предпочитал слово "барочный" - образом Венеции [2]. Другое принципиальное место в "Эве" - Рим; ни один из его видов не возникает как особо яркий визуальный аналог экзистенциальной тревоги Стэнли Бэйкера и грубой сексуальности Джин Мореа. Как и Лин, Лоузи имеет тенденцию излишествовать в отношении поверхностного символизма и структурной плотности образов, так же как и в других своих европейских фильмах этого периода (например, "Модести Блейз" (1966) или "Бум!" (1968)), - все они кажутся перегруженными и претенциозными. Венеция Лоузи состоит из множества древних монументов, полупрозрачных вод, орнаментированных интерьеров и вся атмосфера, которую создают предметы искусства, скорее просто сопровождает, а не комментирует, не поясняет, разворачивающуюся психологическую драму. Лоузи сам признал, что оказался неспособен ограничивать и контролировать мизансцены в этом фильме: "Если бы я переделывал этот фильм заново, я бы, я уверен в этом, использовал эти вещи по-иному или не использовал их вообще. Я пытался вместить в "Эву" больше, чем можно вместить в один фильм" [4]. Судить о Венеции по таким фильмам как "Летняя пора" и "Эва" значит оценивать фон, задний план, который не становится передним; оценивать город, который соответствует фантазиям туристов. Несмотря на то, что "Эва" и, в меньшей степени, "Летняя пора" - серьезные фильмы, кинематографическая функция видов Венеции в них скорее остается "косметической", а не "интерпретационной". В рамках более позднего кинематографического мэйнстрима также появилась Венеция, которая происходит из обычных литературных вопросов относительно различий между европейской и американской культурами. Два примечательных примера этой тенденции "Крылья голубя" (Софтли, 1997) и "Талантливый мистер Рипли" (Мингелла, 1999), на основе новелл Генри Джеймса (1909) и Патрисии Хайсмит (1955) соответственно [5]. Обе новеллы исследуют идеализацию Венеции и, тем более, идеализированное представление о культурной независимости Америки от Европы [6]. Для Джеймса и Хайсмит, путешествие по каким-либо местам Европы это также возвращение к истокам современной Америки, возвращение к той "арене" масок и обманов, нарушений законов и вырождению, которое "отцы-основатели" надеялись изгнать из своего нового прекрасного мира рациональной демократии и просвещенного гражданства. Первое последствие любого "постколониального" опыта - это невозможность полной свободы, и Соединенные Штаты никогда не могли изменить самих себя без изменения отношения к Европе. В видении "американской Европы" Джеймса и Хайсмит нет ничего особенного, если не считать те иронию и противоречия, которые продолжают характеристику весьма эдиповых отношений между Америкой и Европой. Интересно, что Софтли (и киносценарист Хоэссин Амини) решили скорректировать искажение этого лейтмотива во время адаптации "Крыльев голубя", предпочтя изображение Венеции, которая принадлежит больше английским фантазиям 18-19 века, передаче межкультурных тонкостей истории Джеймса. "Талантливый мистер Рипли" также использует блестящий, "наследственный" образ Венеции. Несмотря на то, что в фильме Мингелла показано множество итальянских местечек, включая Рим и Неаполь, его кинематографическое истолкование Венеции - это пустая смесь шарма и чувственности. Можно предположить, что значение такого чрезмерно художественного изображения Венеции в "Талантливом мистере Рипли" скорее ироническое, а не иконическое. Другими словами, в фильме Венеция (его "Европа") интерпретируется как цивилизованный рай, это делается для того, чтобы усилить мрачность мотивов Рипли и подчеркнуть непристойность его действий. Таким мог быть замысел, но при экранизации его где-то в другом месте: создаваемое по современным образцам Голливуда кино имеет тенденцию приукрашивать содержание, а не разрабатывать его. Итальянские пейзажи в "Талантливом мистере Рипли" более удачны с театральной, чем с кинематографической точки зрения. Каждый пейзаж задуман как вид вида: обманы, иллюзии и желания, больше относятся к самим действующим лицам, чем к месту как таковому. В конечном счете, непринужденные построения и плавные переходы Мангеллы скрывают кинжал, занесенный за ширмой великолепия. Действительно, степень этого сглаживания интеллектуальной сути посредством живописных клише тем более заметна при сопоставлении венецианских фильмов Софтли и Мингелла с другой экранизацией литературного произведения этого периода - "Комфорт для гостей" Пола Шрейдера (1990); фильм, который оказался успешным в плане передачи символического резонанса Венеции, он установил более непосредственные отношения между туристской наивностью Нового мира и декадентскими традициями и иерархиями Старого [7]. В фильме Шрэйдера обреченные представители этого "Нового мира" очень английская пара, Колин (Руперт Эверетт) и Мари (Наташа Ричардсон) возвращаются в Венецию чтобы обсудить будущее их отношений: "Зачем мы здесь?" - спрашивает Мария; "Чтобы понять, что делать с тобой и мной", - отвечает Колин. Первый опыт пары туристического удовольствия и романтической близости секретно фотографируется ("регистрируется") совершенным воплощением порочности Старого мира, Робертом (Кристофер Волкен). Декорации Шрейдера (и музыка к фильму, написанная Анджело Бадаламенти) акцентирует восточные аспекты Венеции, ее византийскую странность и необъяснимую экзотику. Освещение, особенно во время ночных эпизодов, богатое и экспрессионистическое, но с некоторыми сюрреалистическими влияниями (неоновые вывески, которые обозначают отсутствие чего-либо и флуоресцентное голубое окно магазина, населенное манекенами). Потерянные в Венеции, Мари и Колин запутались в лабиринтах ее улиц и арок, единственный, кто заговаривает с ними - загадочный Роберт, который настаивает на том, чтобы быть их гидом. Он держит свою речь, в некоторой степени похожую на лекцию, пока сопровождает их, до момента ритуального убийства Колина.
В "Комфорте для гостей" герои и венецианские кадры (в частности, богатый особняк Роберта) соединены символически, и уязвимость Мари и Колина возрастает среди странных, садистских и в конечном счете смертоносным замыслов Роберта и его жены, Каролин (Хелен Миррен). На протяжении фильма оттенки, текстуры и пространственная динамика Венеции Шрейдера легко сочетаются со сценарием Гарольда Пинтера, с его тщательно спланированными постепенными исчезновениями звука, изображения, задержками и паузами [8]. Однако, достижение Пинтера здесь не только чисто поэтическое. В киноадаптации новеллы МакИвана, Пинтер решает выделить мизансцену, которая помогла бы драматически высветить зловещую непохожесть Венеции. Шрейдер, это должно быть отмечено, один из немногих современных режиссеров, способных чутко улавливать язык Пинтера. Действительно, Шрейдер сам говорил, что реализация сценария Пинтера для этого фильма была скорее актом постепенного осуществления замысла, а не типичного, часто встречающегося опошления, важным кинематографическим следствием этого неожиданного сотрудничества стало широкое использование проездов, наездов и отъездов камеры [9]. Невозможность исправить маршрут движения, который одновременно принадлежит сферам и реальной, и эмоциональной, Колин и Мари не столько дезориентированы Венецией, сколько ей переориентированы, ее невидимыми флюидами, по направлению к катастрофе. Движение камеры Шрейдера позволяет сделать эти "флюиды" зримыми, когда мы видим, что за обреченной парой наблюдают, следуют и вновь наблюдают. Этот рефлексивный метод усиливает нашу собственную вуайеристическую вовлеченность в действие и создает Венецию, которая отказывается освободить Колина и Мари от ужасного ночного кошмара. В заключительном эпизоде фильма Мари доставляют в морг для идентификации трупа Колина. Перед тем как уйти, она гладит его волосы; жест, который окончательно разрушает чары наброшенные этим жестоким городом и снова возвращает ее (и нас) к реальности субъективизма. Кажется, фильм Шрейдера имеет много общего с фильмом "А теперь не смотри" Николаса Роег (1973), который является экранизацией новеллы Дафны дю Мауриер. Оба фильма строят свое повествование вокруг мотива "пары в кризисе" и завершаются "необъяснимым" убийством героя мужского пола. И та, и другая картина явно разрушают привычный туристический образ Венеции: Венеция становится местом, где лучше потеряться, чем быть найденным. Постольку, поскольку доминирующий пристальный взгляд туриста в "Комфорте для гостей" вытесняется переглядываниями, перешептываниями и тайными интригами ("пристальным взглядом туземца") тех, кто окружает героев, так в "А теперь не смотри" "венецианцы всегда смотрят на Лауру и Джона [..и] они никогда даже не говорят ничего [...], как будто они знают что-то такое, чего не знаем мы и хотят остаться в стороне от этой проблемы, искусные в обращениях холодного приема" [10]. В других фильмах, обсуждаемых в данном эссе далее, венецианцы, когда их показывают, изображаются либо как отличающиеся от героев, либо как индифферентные персонажи. В обоих фильмах, Шрейдера и Роега, горожане становятся необходимы для передачи той зловещей непохожести места, они участвуют в трагедиях, которые заставляют страдать гостей. Венеция в "А теперь не смотри" показана холодным местом, в прямом и переносном смыслах, несмотря на то, что она не лишена полностью солнечного света, она значительно освобождена от туристов. Ее лабиринты из узких улиц и аллей, пустых мостов, и неподвижных каналов становятся еще более мрачными от экстенсивной серо-голубой цветовой гаммы, палитра, которая также подчеркивает кровавую драму [11]. Такое выразительное использование цвета, вместе с монтажными неправильностями и тщательно разработанной повествовательной структурой, расширяет спектр проблем в фильме, включая туда вопросы смерти, памяти и сверхъестественного. По существу, "А теперь не смотри" - это готический фильм ужасов, и модернистские тенденции в нем не могут в основании подорвать эти жанровые особенности. Тем не менее, "А теперь не смотри" остается волнующим и визуально захватывающим фильмом. В этом отношении экспрессивное вовлечение Венеции в разворачивающуюся драму, тем образом, которым это сделано и объективно, и субъективно в рамках мизансцен, зачастую является и эмоциональным, и рациональным: "Почти все кадры с видами Венеции - каналами, ставнями или окнами - построены на игре комбинаций света и отражения". ""А теперь не смотри" - это фильм о "смотрении" без видения, о слепоте как о вселенском предчувствии, намеке и предсказании. В конечном счете, такое видение Венеции - это образ города как кладбища желаний, границы преисподней, города смерти и города как смерть: "Теперь это не столько вопрос смерти в Венеции, сколько смерть, которая и есть Венеция" [12]. Избегая воспроизведения живописной ("глянцевой открытки") версии Венеции, "А теперь не смотри", также как "Комфорт для гостей", напоминает нам о том, что кино не всегда было слепо в отношении фатальной красоты и скрытой в подтексте сложности этого города. "Отелло" Уэллса и "Смерть в Венеции" Висконти, например, уже не столько изображали Венецию, сколько вызывали наружу символические особенности местности: большая часть "Отелло" снята в разных местах Марокко в Италии, а большая часть "Смерти в Венеции" - на общественном пляже. Графики съемок фильма Уэллса были прерваны по крайней мере тремя разными случайностями, а недостаточное финансирование было для него постоянной проблемой [13]. Несмотря на несчастливое стечение обстоятельств при съемках, "Отелло" стал замечательным достижением кинематографии, без сомнения на равнее с "Печатью зла" (Уэллс, 1958) и "Процесс" (Уэллс, 1963). Интересно отметить, что метод производства "Отелло" может частично объяснить фрагментарную и эллиптическую картинку фильма. Хотя Уэллс не поменял значительно фабулу "Отелло", он произвел кино-адаптацию, которая все же является радикальной в отношении визуальной динамики кадров и метода монтажа. В отличие от "Макбет" (Уэллс, 1948), который базировался на театральной постановке, "Отелло" избегает театральности и перцепционной объективности в пользу субъективной интерпретации индивидуального и социального распада. Богатый символизм Венеции становится ключевым для уэллсовской драмы места, провокации на преступление, страстного желания и лжи. Благодаря стремительной и рваной манере монтажа и ракурсам камеры (которые исключают любую возможность соединения элементов внешнего вида данного места, - ни визуально, ни мысленно), Уэллс творит сверх камней Венеции и Могадора, воображаемую драматургическую архитектуру, эффект которой усиливается благодаря всей той магии, всей невозмутимой и случайной прелести, которую могут воплотить только природные камни в настоящей архитектуре, подточенной веками, ветрами и солнцем [14]. Эффект "воображаемой архитектуры" Венеции в фильме, который черпает свою драматическую силу и смысл из "воображаемого" и многозначительного "ничего", также усилен за счет интенсивного использования Уэллсом закадровых пространства и звука. Фильм Уэллса начинается с похорон Отелло и Дездемоны на Кипре, процессия проходит вдоль дикой, запущенной береговой линии. Похороны показаны как эпическое событие, снятое в стиле, напоминающем позднего Эйзенштейна. Этот эпизод также включает наказание Яго, оставленного наблюдать за трагическими событиями, - которые он сам и провоцировал, - из клетки, свисающей с парапета крепости. Действительно, клетка - это доминирующий визуальный лейтмотив в фильме: она провоцирует на все преступления. Появляется название фильма и голос за кадром быстро исчезает, затем идет средний план на котором, облаченная фигура Отелло, стремительно перемещается через передний план к ожидающей его гондоле, доставляющей героя к дому Брабантио. Дездемона бежит за рядом готических колонн и балконными ограждениями в стиле рококо, широкий, снятый с низкого ракурса кадр неожиданно торжественно открывает величественный фасад дома, с едва видной фигурой Дездемоны, машущей с балкона. Она спускается по лестнице, белая фигура мелькает за плотным рядом колонн, арок и изгородок. На общем плане мельком видно, как она падает в объятия Отелло прежде, чем голова Яго, на которую надет капюшон, появляется на переднем плане, закрывая нам вид. Короткие серии наплывающих друг на друга кадров проясняют другой общий план, на котором присутствуют Отелло и Дездемона, они на алтаре в церкви, затем вырисовывается силуэт головы и плеч Яго, который появляется вновь, чтобы закрыть нам картинку. Влюбленные выходят на улицу и за ними тайно наблюдают Яго и Родериго, до того самого момента, как гондола увлекает их в темный, узкий канал. Этот эпизод был снят в Венеции и он демонстрирует не только мастерство режиссуры Вэллеса, но также важность художественного оформления Александра Траунера (вдохновленного работами венецианского художника Витторе Капраццио [приблизительно 1450-1525]) и музыки Франческо Лаваньино, с ее отчетливыми восточными мотивами, создаваемыми за счет мандолин и различных эффектов от ударных инструментов. То, что похоронные и свадебные сцены не присутствуют в Шекспировском оригинале - это несущественно, хотя способ, которым Уэллс преобразовывает поэтическую структуру языка "Отелло" в визуально отличный дискурс кино до сих пор сильно впечатляет по всем параметрам. Внешне, Кипр - это территория конфликта, мир, где ложь и вымышленные измены "гноятся", мучают, терзают в естественных условиях борьбы и томительного ожидания, в то время, как Венеция кажется цивилизованной и защищенной по общему впечатлению. И еще, как демонстрируют ранние эпизоды, провокация и смерть Отелло и Дездемоны предугадываются в начале в видах Венеции: если бы Отелло мог видеть Венецию, как мы видим ее, он безусловно угадал бы свой жребий. Венеция Уэллса фактически мир неудавшейся возможности: ее виды - фрагменты, которые никогда не могут быть соединены. Безотносительно к широкому разнообразию мест, специальным пересмотрам, усиленным модификациям, фильм Уэллса предлагает такое видение Венеции, которое не только насыщено метафорами, но также является наиболее типично кинематографическим. Кто-то, сравнивая "Отелло" Уэллса с экранизацией "Отелло" Оливера Паркера в 1995 году, и в частности оценивая безупречную сложность кинематографически созданного Уэллсом места, заметил: "Что касается трактовки Венеции и Кипра Паркером, здесь нет и попытки придать символическое звучание географическим местам, он снимает апартаменты Брабантио, сквер Св.Марка и Дож палас так, что они в действительности кажутся натуралистическим задником, который фунционирует, как фотографии, которые предпочитают современные туристы" [15]. Также как мотив провокации Отелло представлен визуально посредством искаженного, разорванного монтажа эпизодов, созданный стиль до неузнаваемости меняет стройный ритм шекспировского языка, преобразуя его в кинообразы; подобным же образом при использовании Висконти наезда\отъезда камеры в "Смерти в Венеции", кинематографически отражалась несобственно-косвенная проза Манна: "Наезды\отъезды жестко ограничены, поскольку они означают лишь движение "к" и "от" [...] выбор метода наезда\отъезда предполагает, что Ашенбах как бы схвачен в его подавленной сдержанности" [16]. Ашенбах и Отелло, художник и солдат, оба верят в Венецию, которая ответит на их поиски красоты любви. В конечном счете, трагедия Отелло завершается реальностью политической уязвимости, в то время как сознание Ашенбаха разлагается под действием всеобщего упадка. Как в "Отелло", первые виды Венеции в фильме Висконти разрушают миф и служат прообразом последующего опустошения. С начала ["Смерти в Венеции"] темная дымовая завеса, с ее безмолвным, призрачным движением, - это плохое предзнаменование, эффект от которого усиливается за счет медленного вхождения в Венецию. Вместо традиционных видов золотых дворцов, голубого неба и многоцветного мрамора, - город, окутанный туманом и сыростью. В этом раскачивающемся текучем мире гондолы, обычно воспринимаемые как романтическое средство передвижения, вырисовываются траурными черными силуэтами на темных водах, по выражению Манна, такая Венеция - "самый неправдоподобный из городов". Это двусмысленность окружает Ашенбаха, который, с самого начала, теряет контроль над своей судьбой, в то время как местные жители, с их ухмылками и коварными взглядами, кажется "знают" уже обо всем [17]. На всем протяжении "Смерти в Венеции" настоящее наполняется прошлым, которое есть литература (Манн), живопись (искусство Ренессанса), фотография (поздний 19 век), театр (комедия масок) и музыка (адажио Махлера). Подобно тому, как Ашенбах путает слова из "Федры" Платона, не умея соединить их, эти фрагменты всегда остаются фрагментами, и только. Настоящее не представляет собой единого целого и Венеция, особенно венецианский общественный пляж и (неоклассический) отель де Бэйнс, дает только короткий проблеск, вспышку красоты. Ашенбах разбит, уничтожен не просто навязчивым желанием, но окружающей обстановкой, которая обладает силой достаточной, чтобы довести наваждение до фатального исхода. В Венеции разрыв между внутренним и внешним мирами растет до бесконечности, от сумасшествия к смерти. Висконти выстраивает схему этого фатального путешествия, одновременно оплакивая гибель других мечтаний, предназначений и достижений - другую Венецию. Кажется, что интенсивный модернизм "Смерти в Венеции" контрастирует с богатыми историческими видами, и мелодраматической напыщенностью, другого венецианского фильма Лукино Висконти - "Чувство" (1954). Однако, почерк режиссера и его "театральное" видение кино, - особенно в отношении вопроса мелодраматичности, - всегда сложно категоризировать. Оба фильма рассказывают об опасной связи между внешним и внутренним, и оба связывают Венецию с трагедией желания (хотя "Смерть в Венеции" очевидно исследует это положение в меньшей степени с точки зрения "общественной" и исторической, чем "Чувство"). Экспрессивный колорит Венеции в "Чувстве" также, кажется, предупреждает "Смерть в Венеции": "В "Чувстве" Венеция днем светлая и хрупкая, как цвет воды [...] ночью она преимущественно голубого оттенка" [18]. Ввиду всех этих очевидных различий, Венеция в обоих фильмах Висконти, тем не менее, по существу царство фальши и разочарованного идеализма, чрезмерности и гниения [19]. В "Невидимых городах" Итало Кальвино, Марко Поло описывает все города, которые он посетил, Кублай Хану. По ходу развития диалога, Поло открывает, что из всех этих городов Венеция - его дом - и что сейчас он боится, что никогда не сможет забыть ее: "Возможно, я боюсь потерять всю Венецию однажды, если говорить о ней. Или, вероятно, если говорить о других городах, я уже потерял ее, постепенно" [20]. Что отличает фильмы Висконти и Уэллса от работ Роега и Шрейдера, так это их взгляд на формы экранизации и создание визуальных сцен, которые полностью проникают за внешний, видимый ("глянцевый") слой Венеции. В конечном счете, "Отелло" и "Смерть в Венеции" - кинематографическое доказательство призрачности некоторых "мест" и бесконечности поисков. Висконти и Уэллс не боятся потерять Венецию, потому что они знают, что этот город уже потерян. И это знание делает возможным перерождение Венеции - "постепенно" - посредством кино [21].
Примечания: 1 Книга Тони Таннер “Желанная Венеция” (Tony Tanner, “Venice Desired”), например, предлагает авторитетную и привлекательную трактовку литературного образа Венеции. “Венеция: культурный и литературный справочник” Мартина Гаттера (Martin Garrett. “Venice: A Cultural and Literary Companion”) - это особенно полезная книга в качестве начального справочника по самым общим вопросам, а “Венеция явная и тайная: английские фантазии о Венеции” под ред. Манфреда Пфистера и Барбары Шаф (“Venetian Views, Venetian Blinds: English Fantasies of Venice”, ed. Manfred Pfister and Barbara Schaff), содержит ряд эссе определенных писателей и режиссеров. Так же достойна внимания книга Реги Дибрэй “О Венеции” (Regis Debray “Against Venice”). 2 “Я думаю, “Эва” была по сути фильмом в стиле барокко […], потому что этот фильм связан с городом, принадлежащим стилю барокко, периодом барокко, и, в большой мере, с “барочными” героями” - Лоузи, цитируется по “Лоузи о Лоузи”, под ред. Тома Мильна (“Losey on Losey”, ed. Tom Milne, 56). Несчастья и личные травмы, которые сопутствовали “Эве” на стадии съемок, хорошо описаны в хронологическом порядке в замечательной биографии Лоузи, написанной Дэвидом Каутом, “Джозеф Лоузи: реванш над жизнью” (David Caute “Joseph Losey: A Revenge on Life” 155-64). Для поиска информации о некоторых постпроизводственных искажениях в “Эве”, см. Мильна и Геофа Гарднера, “Пагубная вырезка кадров: “Эва” Джозефа Лоузи” (Milne 56-59 and Geoff Gardner “Unkind Cuts: Joseph Losey's Eve”). 3 Интересно, что Джэк Хильярд так же был оператором в этом фильме. 4 Milne 39. 5 “Плейн Солейл/Багровый полдень” Рене Клементца (1960) это также экранизация “Талантливого мистера Рипли”. Краткое обсуждение “Крыльев голубя” и экранизации можно найти в книге Роиба Вуда “Крылья голубя” (Robin Wood's The Wings of the Dove 7-9). 6 Обсуждение “Венеции” Генри Джэймса см. Tanner and Hugh Honour and John Fleming, The Venetian Hours of Henry James, Whistler and Sargent. 7 Для некоторого проникновения во взгляды Шрейдера относительно данного вопроса, см. Harlan Kennedy, 'The Discomforts of Schrader" 54-55. А также “Schrader on Schrader” 199-206. 8 См. Steven Gale “Sharp Cut: Harold Pinter's Screenplays and the Artistic Process” 322-36. О ключевых риторических чертах этой экранизации см. Charles Forceville “The Conspiracy in The Comfort of Strangers: Narration in the Novel and the Film” 119-35. 9 Gale 331-36. 10 Mark Sanderson, Don't Look Now 29-30. 11 Sabine Schulting, '"Dream Factories': Hollywood and Venice in Nicolas Roeg's Don't Look Now," in Venetian Views, Venetian Blinds 207. Анализ того, как “А теперь не смотри” разрушает традиции классического голливудского кино является полным, даже несмотря на то, что ее заключение (о том, что киностиль перенимает “кристальный строй” Делюжа) неубедительно. 12 Tanner 358. 13 Различные проблемы, которые мешали осуществлению проекта Уэллса “Отелло” ярко описаны работе Micheal MacLiammoir “Put Money in Thy Purse”. Более подробные сведения и исследования могут быть найдены “This is Orson Welles 222-32”, Welles and Peter Bogdanovich. Уэллс также обсуждает создание “Отелло” в документальном фильме “Съемка “Отелло” – его последний законченный фильм”. 14 Andre Bazin, Orson Welles: A Critical View 114. 15 Robert F. Williamson, Jr., "Strange New Worlds: Constructions of Venice and Cyprus in the Orson Welles and Oliver Parker Films of Othello" 38. Экспрессионистский стиль забытого шедевра Маурик Тбурнеур “Вольпоне” (1941) может быть также интересен для рассмотрения его в отношении фильма Уэллса. 16 Michael Wilson, "Art is Ambiguous: the Zoom in Death in Venice" 153-58. 17 Claretta Micheletti Tonetti, Luchino Vtsconti. 18 Geoffrey Nowell-Smith, Luchino Visconti, 3111 ed. 72. 19 Действительно, способы, которыми образ Венеции формировался в итальянском кино, сами по себе предоставляют простор для обсуждения, которое может включать и анализ “Идентификация женщины” (Антониони, 1982, “Казанова” (Феллини, 1976) и некоторое количесвто фильмов Тинто Брасс или даже, что может показаться немного странным, “Носферату в Венеции” (Каминито, 1988). 20 Italo Calvino, Invisible Cities 87. 21 Более ранняя и укороченная версия эссе появилась в “Film and Comment, 2, 2003 (Waterford Institute of Technology, Rep. of Ireland). |