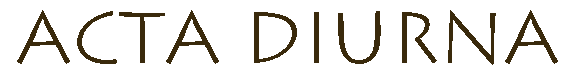 |
Revenant of Vienna:
A Critical Comparison of Carol Reed's Film The Third Man
and Bram Stoker's Novel Dracula, The
Ревенант из Вены:
критическое сравнение фильма Кэрол Рид "Третий человек"
и новеллы Брэма Стокера "Дракула"
Перевод А. Евдокимовой.
Source: Literature Film Quarterly, 2005 by Dern, John A //
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3768/is_200501/ai_n12412546
|
This "city of the dead" appeared to be the sole refuge for my unfortunate friend [...].1 In his prose fragment "Augustus Darvell," Lord Byron established the foundation for numerous subsequent tales of the "revenant," or one who returns from the dead, in English literature. In fact, Byron's traveling companion John Polidori used the poet's unfinished tale as the basis for The Vampyre, which itself established many of the motifs associated with the most famous type of revenant. Polidori's tale also ignited "a vampire craze that still shows no sign of subsiding" (Morrison and Baldick viii).2 Indeed, the vampire has appeared in numberless media presentations, veritably saturating modern culture in guise after guise: "the vampire has no fixed image and no fixed abode" (Frost 27).3 The most famous vampire, of course, is the title character of Bram Stoker's Dracula, who has appeared in numerous subsequent media adaptations. Building on the foundation of Polidori's The Vampyre, Dracula-"the greatest and most influential vampire novel ever written" (Frost 52)-has informed Gothic literature for more than a century. The first cinematic production to capture the Gothic essence of Dracula was F. W. Murnau's silent classic Nosferatu. Murnau did for the cinematic vampire what Stoker did for his literary counterpart: he created a work that has informed Gothic cinema for more than eight decades. In fact, Roger Ebert argues, "Murnau was the making of Stoker, because Nosferatu inspired dozens of other Dracula films, none of them as artistic or unforgettable [...]" (Nosferatu). Between them, Stoker and Murnau virtually wrote the cultural text of the vampire as society perceives it today. Moreover, numerous artists from Anne Rice to Tod Browning have engaged this text and added their own aesthetic nuances to the multifarious incarnations of the vampire. Another artist who has engaged and added to the cultural text of the vampire is Carol Reed, whose film The Third Man shares many qualities with Stoker's Dracula. Strictly speaking, of course, Reed's film tells the story of a figurative revenant, not a vampire, but the thematic closeness of his eponymous character, Harry Lime, to Stoker's Dracula, and the cultural saturation of the vampire-revenant theme from the time of Polidori forward, clearly reveal themselves in Reed's masterpiece. The Third Man, then, is not a Gothic film in the mold of Murnau's Nosferatu? However, it does reveal how deeply the revenant, particularly the vampire, has influenced Western cinema, for Harry Lime possesses characteristics of the vampire even though The Third Man is not at all a tale of the supernatural. Essentially, Reed takes the revenant formula and figuratively redeploys it with inflections of the vampire archetype as established by Dracula. As Graham Greene argues in his "Preface" to the novel version of The Third Man, "Even a film depends on more than plot, on a certain measure of characterization, on mood and atmosphere" (9). Dracula and The Third Man do have superficial plot similarities. For instance, although both Dracula and Lime are eponymous protagonists, neither character appears frequently in his respective narrative. Of this aspect of the film, Orson Welles, who plays Lime, remarks, "What matters in that kind of role is not how many lines you have, but how few. What counts is how much the other characters talk about you" (Welles and Bogdanovich 221). Likewise, Dracula's "presence" in the novel depends largely upon the fact that other characters continually discuss him: "Although he remains Off-stage' for most of the time, Dracula is undoubtedly the dominant figure throughout the book" (Frost 54). In other words, although neither Dracula nor Lime appears often in his respective work, each character serves as the focal point of his story's plot. In another point of plot similarity, both protagonists are killed after prolonged chases-killed, as Glen K. S. Man says of The Third Man, with "the full weight of justice" (173). Despite their plot parallels, however, the similarities between Dracula and The Third Man derive mainly from what Greene calls "mood and atmosphere," and even more so from characterization. I. "Closing Down" "Here begins the land of phantoms." So a coachman tells Hutter (Jonathan Harker) in Murnau's Nosferatu. The coachman utters these words in fear as he refuses to proceed farther into the realm of the dreaded vampire Count Orlok. However, the same line might have fit in Reed's The Third Man had someone spoken it to Holly Martins on his arrival in Vienna. As their respective narratives begin, both Stoker's Harker and Reed's Martins enter worlds of Gothic strangeness. As he rides to meet Count Dracula's caleche at the Borgo Pass, for instance, Harker describes his surroundings in oppressive detail: Sometimes, as the road was cut through the pine woods that seemed in the darkness to be closing down upon us, great masses of greyness, which here and there bestrewed the trees, produced a peculiarly weird and solemn effect, which carried on the thoughts and grim fancies engendered earlier in the evening, when the falling sunset threw into strange relief the ghost-like clouds which amongst the Carpathians seem to wind ceaselessly through the valleys. (34) Harker's description of his journey through this "weird" atmosphere culminates in his arrival at Dracula's "vast ruined castle," whose "broken battlements" cut "a jagged line against the moonlit sky" (39). Barker's words, in short, describe a world "closing down" upon him both literally and figuratively; as a result, they connote a sense of claustrophobic collapse and imminent mental breakdown not unlike that found in Robert Wiene's The Cabinet of Dr. Caligari. In this film, all is not what it seems, and so it is with Marker's world in Dracula. Indeed, Marker soon finds himself a prisoner in the castle, and his experiences do lead to a mental breakdown. The remainder of the novel builds on this feeling as Dracula's antagonists undertake a battle against a foe whose very existence puts their reason to the test. Likewise, Holly Martins quickly finds himself in a world that literally and figuratively is "closing down" upon him. Throughout a Vienna ravaged by World War II, he encounters a city of crumbling buildings and "dark mistiness"-to borrow an apt phrase from Barker's account in Dracula. More important, Reed films The Third Man so that a sense of mental unbalance complements the visual ruin: "More shots [...] are tilted than are held straight; they suggest a world out of joint. There are fantastic oblique angles. Wide-angle lenses distort faces and locations. And the bizarre lighting makes the city into an expressionist nightmare" (Ebert, Third Man). The expressionist mood of The Third Man not only recalls the work of Murnau and Wiene, but also unites the film with the nightmarish qualities of Dracula, particularly the image of the castle's "jagged line against the moonlit sky." In short, the atmosphere of both Dracula and The Third Man is one of oppression and breakdown, with the mood an expressionist adjunct to the atmosphere, especially in the latter. Against two thematically comparable settings, then, Stoker and Reed develop their protagonists. II. Doorways Interestingly, both Dracula and Harry Lime first appear in their respective stories-recognizably-while standing in doorways. (Dracula initially appears disguised as the driver of the caleche, and Lime initially appears in an overhead shot as one of three indistinguishable characters who meet on a bridge.) More important, these doorways possess symbolic significance in terms of the protagonists' characterization. In Dracula, for instance, the count greets Harker at the door of the castle and beseeches him to enter: "Welcome to my house! Enter freely and of your own will!" he made no motion of stepping to meet me, but stood like a statue, as though his gesture of welcome had fixed him into stone. The instant, however, that I had stepped over the threshold, he moved impulsively forward, and holding out his hand grasped mine with a strength which made me wince, an effect which was not lessened by the fact that it seemed as cold as ice-more like the hand of a dead man than a living man. (40-41) In this passage, Harker crosses from one plane to another. The doorway symbolizes a passageway from a world of life to a world of living death, and once he has crossed the threshold of his own free will, Harker clasps the hand of the literal fiend who presides over this realm of the undead. In this sense, the doorway metaphorically separates Dracula from Harker's world: Dracula never can leave his realm of the undead just as in Paradise Lost Satan never can escape from hell.6Rather, both devils bring their conditions with them and induce others to join them. Similarly, Lime occupies a pseudo-vampiric state between life and death. he moves through the streets of Vienna "like a demonic presence" (Gomez 335), and then he returns to his netherworld of the sewers, his "mysterious appearances and departures" lending to The Third Man's Gothic quality (Gomez 337). In this sense alone he resembles Dracula, who also comes and goes mysteriously throughout the novel. More important, however, the doorway in which Lime first appears symbolically connects him with the idea of a hellish fiend. As Seymour Chatman points out, Lime ascends from the ruins of Vienna, "a hallucinatory amalgam of Al Capone and Pluto" (191). Chatman's point is especially insightful, for Lime, who literally resembles a gangster like Al Capone, possesses the figurative qualities of a denizen of the underworld. As he stands in the doorway, his smirking face exposed to Martins's eyes by a glancing light, it is as if he, like Dracula, pauses on the threshold of a world he cannot enter: the world of the living. Martins, like Harker, tries of his own free will to follow Lime into the latter's world, although he does not initially succeed. As he chases Lime down a dark, wet lane, though, he sees Lime's larger-than-life shadow upon the wall, an image that reinforces Lime's characterization as both a "shade" and a "monster" (figure 1). Moreover, Lime draws Martins as Dracula draws Harker: with a sickening, yet irresistible "magnetism" (Gribble). Lime's mere existence subsequently compels Martins to learn more about him, although what Martins learns is the stuff of horror. After he recovers from his breakdown, Marker feels much the same "magnetism" with respect to Dracula. Indeed, both Martins and Barker have to destroy their demons in order to free themselves from their repulsive grasps. III. Children of the Night Interestingly, both Dracula and Lime appear primarily, but not exclusively, at night. Both characters require the cover of darkness, albeit for different reasons. Dracula's power peaks at night: "His power ceases, as does that of all evil things, at the coming of the day" (Stoker 244). Unlike Murnau's Count Orlok, however, Stoker's Dracula will not evaporate with the first light of dawn. On more than one occasion, in fact, Dracula appears in the novel during the day. For instance, after his return to London, Harker sees Dracula in daylight near Hyde Park as Harker strolls with his wife (183). On another occasion, as Harker, Dr. Seward, Dr. Van Helsing, and the count's other enemies await him at his Piccadilly house, Dracula again appears during the day. Nonetheless, Dracula remains most formidable at night, at which time his strengths, such as his ability to change form, reach their zenith. Lime uses the darkness to help conceal his movements outside of the second Bezirk, the Russian sector of Vienna, and the only sector in which he is not a wanted man.7 In a sense, Lime's power also peaks at night, for he, like Dracula, remains much more vulnerable to apprehension as long as the sun shines. Figuratively speaking, Lime suffers from the same handicap as the vampire. Indeed, in his primary daylight scene, during which he converses with Martins as they ride the Prater Wheel-which lies in the Russian sector-Lime remarks, "I've got to be so careful." Part of being "careful" means moving around the other sectors of occupied Vienna only when conditions are most conducive to concealment. An even more interesting similarity, however, involves the two protagonists' child-like qualities. For instance, in Dracula, just before the aforementioned Piccadilly scene, Dr. Van Helsing analyzes Dracula's mental abilities: "In some faculties of mind he has been, and is, only a child; but he is growing, and some things that were childish at the first are now of man's stature" (300). Critic Dennis Foster goes so far as to call Dracula "the Peter Pan of the undead, one of the lost boys" (49O).8 The point here is that Dracula possesses an almost paradoxical combination of qualities. In other words, his Peter Pan perspective on death juxtaposes the horror of the method he uses to cheat death: "Dracula never complains about being a vampire, living forever, and feeding on a fresh woman every night [...]" (Foster 490). Lime, too, possesses a paradoxical combination of child-like qualities and horrific ones. Ioseph Gomez, for instance, calls him "an ego-centric, amoral child lost in a changing universe" (334). Roger Ebert, having discussed Lime's famous appearance in the doorway, calls the smirk on his face "enigmatic and teasing," one appropriate to "two college chums [...] caught playing a naughty prank" (The Third Man). Graham Greene also characterizes Lime as child-like in the novel; in fact, Colonel Galloway,9 narrating as a centered consciousness, produces Martins's telling thoughts about Lime: "He's never grown up. Marlowe's devils wore squibs attached to their tails: evil was like Peter Pan-it carried with it the horrifying and horrible gift of eternal youth" (104). As in Dracula, this combination of childlikeness and evil creates in Lime a sense of "ambivalent menace" (Gribble).10 Admittedly, Greene's novel places greater emphasis on Lime's "immaturity, his boyishness, his incapacity to grasp his own cruelty" (Gribble). However, this aspect of Lime's character is not lost to the film-far from it. While riding the Prater Wheel with Martins, for instance, Lime discusses human beings as if they were insects and leaves no doubts about the depths of his depravity-yet he does this with an almost cherubic smile (figure 2). IV. Degeneracy "Ruthless, self-centered, and without a trace of kindness or pity, a person who has become one of the Undead by choice leads a degenerate, inhuman existence [...]" (Frost 8). Although contained in a book about vampires, this passage applies almost equally to Dracula and Lime. Both suffer from "degeneracy," the former physically and morally, and the latter morally. In Degeneration, Max Nordau describes the physical characteristics of degeneracy, and they include "imperfection in the development of the external ear" and "irregularities in the form and position of the teeth" (392). Dracula certainly possesses these two characteristics, for Harker describes the count's ears as "pale and at the tops extremely pointed" (42-43), and he calls attention to the count's "peculiarly sharp white teeth," which protrude over the lips (42). Add to these features the count's other oddities, including his long, pointy fingernails and the hair on his palms (43), and Dracula becomes an almost prototypical physical degenerate." More important vis-a-vis his similarity to Lime, however, is the count's moral degeneracy. Nordau also describes the characteristics of moral degenerates: That which nearly all degenerates lack is the sense of morality and of right and wrong. For them there exists no law, no decency, no modesty. In order to satisfy any momentary impulse, or inclination, or caprice, they commit crimes and trespasses with the greatest calmness and self-complacency, and do not comprehend that other persons take offence thereat. (393) Admittedly, Dracula does not fit the latter part of this description as well as Lime, for Dracula does realize that he is giving offense. For instance, before forcing Mina Harker to endure a perversion of the Eucharist in which he compels her to drink blood from his chest, the count taunts her: "And so you, like the others, would play your brains against mine. You would help these men to hunt me and frustrate me in my designs! You know now, and they know in part already, and will know in full before long, what it is to cross my path" (288). Despite his knowledge of his offense-indeed, his intention to offend-Dracula remains a moral degenerate in his lack of decency and modesty. As the scene with Mina Harker reveals, Dracula suffers from no sense of scruple whatsoever. For him, human beings are merely a means to an end. His evil knows no limitations. Lime also uses human beings as a means to an end. A moral degenerate like Dracula, Lime not only recognizes neither law, nor decency, nor modesty, but he also commits his crimes with "the greatest calmness and self-complacency." he clearly exhibits these latter traits, for example, during the aforementioned Prater Wheel scene with Martins, who asks Lime about the child-victims of Lime's penicillin racket: MARTINS. Have you ever seen any of your victims? LIME. You know, I never feel comfortable in these sort of things. Victims? Don't be melodramatic, [opens door of car] Look down there. Would you really feel any pity if one of those dots stopped moving forever? If I offered you ?20,000 for every dot that stopped, would you really, old man, tell me to keep my money? Or would you calculate how many dots you could afford to spare? Free of income tax, old man. Free of income tax. It's the only way you can save money nowadays. Lime's coolness toward his victims clearly reveals his moral degeneracy. Moreover, as a moral degenerate, he "asserts the theoretical legitimacy of crime; seeks, with philosophically sounding fustian, to prove that 'good' and 'evil,' virtue and vice, are arbitrary distinctions" (Nordau 393). To this end, Lime tells Martins in the same scene that "nobody thinks in terms of human beings. Governments don't. Why should we? They talk about the people and the proletariat; I talk about the suckers and the mugs. It's the same thing." To Martins's statement that Lime used to believe in God, Lime replies, "I believe in God and mercy and all of that. But the dead are happier dead. They don't miss much here, poor devils." Although Lime demonstrates greater calmness and self-complacency than Dracula, he, like the count, obviously cares nothing for human beings qua human beings. After all, to borrow Frost's phraseology, both lead inhuman existences, having become undead by choice. V. Thus Spake Zarathustra Ironically, both Dracula and Lime adopt attitudes of superiority toward humanity despite-perhaps even because of-their degeneracy. Each expounds a Nietzschean point of view vis-a-vis humanity because each believes wholeheartedly that he occupies a privileged position that derives from superior ability. Before he forces Mina Harker to drink his blood, for instance, Dracula adds to his speech belittling his foes: "Whilst they played wits against me-against me who commanded nations, and intrigued for them, and fought for them, hundreds of years before they were born-I was countermining them" (288). Likewise, at the house in Piccadilly, Dracula rants as he confronts Harker and company: You think to baffle me, you-with your pale faces all in a row, like sheep in a butcher's. You shall be sorry yet, each one of you! You think you have left me without a place to rest; but I have more. My revenge is just begun! I spread it over centuries, and time is on my side. Your girls that you all love are mine already; and through them you and others shall yet be mine-my creatures, to do my bidding and to be my jackals when I want to feed. Bah! (304) As a heroic figure from the past, one with a history of great deeds, Dracula looks contemptuously on those who would defy him: his past bespeaks his superiority. Indeed, he refers to Harker and his other foes as "sheep," "creatures," and "jackals" as he berates them. Whereas Lime looks at "dots" and sees pounds, Dracula looks at "sheep" and sees prey. His interest in human beings may not be monetary, but it is equally callous and condescending. His tone is that of a "superman."12 Like Dracula, Lime also adopts the viewpoint of a "superman." From the height of the Prater Wheel, he refers, "with Zarathustra-like rhetoric" (Gomez 339), to the people below as "those dots." Moreover, in order to justify his position, he attempts to analogize himself and totalitarian governments, identifying himself with "dictatorships that treat people as a 'mass' to be manipulated: he succumbs to the amorality of a Hitler or a Stalin" (Rea 162). However, Lime's point of view, like Dracula's, ultimately proves to be little more than rhetoric, Zarathustrian though it may be: "The nihilistic view of life which Harry Lime expounds [...] is partly sophistical, partly designed to rationalize Harry's greed and ruthlessness [...]" (Gribble). With great irony, Lime dies ignominiously in the sewers beneath Vienna, beneath the feet of "those dots" he saw from atop the Prater Wheel. Similarly, Dracula dies at the hands of his "sheep," those "creatures" who were to do his bidding and be his "jackals." Harry Lime is not a vampire. he is not even a ghost. Still, in characterizing Lime, Carol Reed latches on to traits associated with Dracula, traits that have saturated Gothic literature and cinema because of the influence of Stoker's novel and Murnau's Nosferatu. Admittedly, Reed employs the Gothic only figuratively, but he nonetheless creates in The Third Man a mood and an atmosphere conducive to a revenant with vampiric qualities. In Harry Lime, in short, the motif of the revenant, particularly the vampire-revenant, evolves in ways Polidori never would have imagined: his ruthless, scheming bloodsucker has become a ruthless, scheming racketeer who nevertheless remains "undead." Notes 1 Byron, "Augustus Darvell," The Vampyre and Other Tales of the Macabre, ed. Robert Morrison and Chris Baldick (Oxford: Oxford UP, 1998) 249. 2 see Frost 24. 3 Roger Ebert calls Nosferaiu "the story of Dracula before it was buried alive in cliches [sic], jokes, TV skits, cartoons and more than 30 other films" (Nosferatu). 4 Murnau and other German filmmakers did influence Reed, however. see Robert F. Moss, The Films of Carol Reed (New York: Columbia UP, 1987) 265. 5 Critic Frank Manchel argues that a filmmaker will simultaneously honor the aesthetic rules established by convention and update them in order to produce a critically and popularly successful work. In terms of the revenantvampire, Reed has "updated" the formula by making his re venant-vampire figurative and by making him a racketeer rather than a nobleman. sec Manchel, "What Does It Mean, Mr. Holmes?" Literature/Film Quarterly 31.1 (2003): 71. 6Scc John Milton, Paradise Lost, The Norton Anthology of World Masterpieces, 7'1' ed., Vol. 1, ed. Sarah Lawall (New York: W. W. Norton, 1999) 2199. 7 The Russian sector is to Lime as Transylvania is to Dracula: both protagonists try to flee back to these supposed places of safety as their foes pursue them. 8 Foster notes that the 1987 film The Lost Boys also connects vampirism and Peter Pan. see Foster 49On. 9 In Greene's novel, Galloway holds the rank of colonel, not major. 10 Dracula's menace is less ambivalent than Lime's, particularly because Dracula attacks his victims like an animal and drains their blood. Still, Dracula benefits from Polidori's ennoblement of the vampire: "The historical and mythological importance of Polidori's The Vampyre lies in its drastic correction of the folklore's shortcomings, and especially in his elevation of the nosferatu (undead) to the dignity of high social rank" (Morrison and Baldick xii). Especially early in the novel, Dracula's rank and demeanor help belie his menace, as does his childlikeness later in the novel. 11 Murnau accentuates these characteristics in Nosferatu'. "[Max] Schreck plays the count [Orlok] more like an animal than a human being; the art direction by Murnaif s collaborator, Albin Grau, gives him bat ears, clawlike [sic] nails and fangs that are in the middle of his mouth like a rodent's [...]" (Ebert, Nosferatu). 12 Superman: a man who prevails by virtue of being a ruthless egoist of superior strength, cunning, and force of will." "Superman," def. 3, Webster's New Universal Unabridged Dictionary, 1992 ed. |
"Этот "город смерти" являлся единственным убежищем для моего несчастного друга"[1]. Приведенный фрагмент "Августа Дарвелла" лорда Байрона заложил основание для многочисленных последующих рассказов про “ревенанта” или того, кто воскрес из мертвых, в английской литературе. Фактически, дорожный спутник Байрона Джон Полидори использовал незаконченный рассказ поэта в качестве базы для "Вампира", произведения, которое само породило множество мотивов, связанных с наиболее популярным типом ревенанта. Рассказ Полидори также спровоцировал "вампирскую лихорадку, которая до сих пор не показывает признаков утихания" (Morrison and Baldbick viii) [2]. В самом деле, вампир появляется в бесчисленных медиа-презентациях, по-настоящему насыщая современную культуру, образ за образом: "Вампир не имеет строго установленного облика и строго установленного жилища" (Frost, 27)[3]. Самый знаменитый вампир, конечно, это заглавный герой произведения Брэма Стокера - "Дракула", который появлялся во множестве последующих медиа адаптациях. Построенный на основе "Вампира" Полидори - Дракула - "величайший и самый влиятельный из всех, когда либо созданных литературных образов вампира" (Frost, 52), - вдохновлял готическую литературу более века. Первым кинематографическим продуктом, который ухватил готическую сущность Дракулы, было классическое немое кино Ф.У.Мурнау - "Носферату". Мурнау сделал для кинематографического образа вампира, то же, что Стокер для литературного: он создал работу, которая вдохновляла готическое кино более, чем восемь десятилетий вперед. По факту, Роджер Эберт утверждает: "Мурнау был порожден Стокером, "Носферату" вдохновил на создание дюжин других фильмов о Дракуле, и ни один из них не был столь художественным и незабываемым[...]" ("Носферату"). Стокер и Мурнау в сущности написали культурный текст о вампире, как общество понимает этот образ сегодня. Более того, многочисленные деятели искусства от Энн Райс до Тода Броунинга использовали этот текст, добавляя свои собственные эстетические нюансы к разнообразным воплощениям вампира. Еще один режиссер, который использовал и дополнил традиционный культурный текст о вампире, - это Кэрол Рид, чей фильм "Третий человек" имеет много общих черт с “Дракулой” Стокера. Строго говоря, безусловно, фильм Рид рассказывает историю ревенанта с метафорической точки зрения, - не вампира, а героя, Гарри Лайма, типологически близкого к Дракуле Стокера, и имеющего черты тех культурных воплощений образа вампира, которые были созданы во времена после Полидори; оба эти источника открыто обнаруживают себя в шедевре Рид. "Третий человек", таким образом, это не готический фильм в стиле "Носферату" Мурнау. Однако, фильм раскрывает насколько сильно ревенант, в частности вампир, повлиял на западное кино, например, на Гарри Лайма, обладающего характеристиками вампира, и это несмотря на то, что "Третий человек" отнюдь не сверхъестественная история. По существу, Рид берет формулу ревенанта и метафорически привносит туда черты архетипа вампира, как он дан в "Дракуле". Грэхам Грин утверждает, в его "Предисловии" к литературной версии "Третьего человека": "Фильм скорее всего зависит не столько от сюжета, то есть от очевидного характерологического параметра, сколько от настроения и атмосферы". [9] "Дракула" и "Третий человек" имеют поверхностные сюжетные совпадения. Например, несмотря на то, что типологически сходные Дракула и Лайм оба являются главными действующими лицами, ни тот ни другой герой не появляются часто в ходе самого повествования. В отношении данного аспекта фильма, Орсон Уэллес, который играет Лайма, замечает: "Что важно в данном типе роли, так это не то, насколько много реплик у тебя, а то насколько их мало. Поскольку во внимание принимается то, как много других героев говорят о тебе" (Welles and Bogdanovich, 221). Подобным же образом, "присутствие" Дракулы в новелле во многом зависит от того, что другие герои постоянно обсуждают его: "Хотя сам он остается "за кулисами" большую часть времени, Дракула, несомненно, доминирующая фигура на протяжении всей книги" (Frost, 54). Другими словами, несмотря на то, что ни Дракула, ни Лайм не появляются часто, производя соответствующие действия, каждый из этих героев служит фокусной точкой в сюжете истории. Другая точка соприкосновения в сюжетах в том, что оба главных героя оказываются убитыми после длительной смертоносной погони, как Глен К.С. Мэн говорит о "Третьем человеке", с "полновесным правосудием" (173). Несмотря на сюжетные параллели, однако, сходства между "Дракулой" и "Третьим человеком" происходят в основном из того, что Грин назвал "настроением и атмосферой" и даже более того, из манеры создания словесных портретов.
1. "Сгущение" тьмы "Здесь начинается территория призраков", - так говорит кучер Гуттеру (Джонатан Харкер) в "Носферату" Мурнау. Кучер произносит эти слова со страхом, и отказывается продолжить дальнейшее движение в царство ужасного вампира графа Орлока. Подобная же сюжетная линия может быть прослежена в "Третьем человеке" Рида, когда кто-то говорит то же самое Холли Мартинс, по прибытии его в Вену. В начале обоих повествований, Харкер Стокера и Мартинс Рид соответственно, вступают в странный готический мир. Когда он едет в коляске Дракулы на встречу с графом в Борго Пасс, например, Харкер описывает окрестности с помощью угнетающих деталей: "Иногда, когда дорога врезалась в сосновые леса так, что казалось мрак покрывал нас полностью, безграничная сумрачность, которая и там и здесь окутывала плотным слоем деревья, производила особенный жуткий и мрачный эффект, влияющий на мысли и зловещие фантазии, порожденные ранним вечером, когда догорающий закат просвечивал лучами сквозь странные очертания призрачных облаков, плывущих между Карпатами, которые, казалось, беспрерывно извивались по долинам". (34) Описание Харкером его путешествия сквозь эту "таинственную" атмосферу достигает пика по прибытии в "громадный опустошенный замок" Дракулы, чьи "разбитые зубчатые стены" разрезают "по неровной линии залитое лунным светом небо" (39). Слова Баркера, вкратце, описывают “сгустившийся” мир тьмы над ним, в буквальном и переносном смыслах; в результате, создается чувство клаустрофобного коллапса и неминуемого внутреннего распада, похожего на тот, который мы находим в "Кабинете доктора Калигари" Роберта Вина. В этом фильме, все оказывается не тем, чем кажется на первый взгляд, это же касается мира Маркера в "Дракуле". В самом деле, Маркер вскоре обнаруживает себя в качестве пленника в замке, и его переживания приводят к внутреннему распаду. Остальная часть новеллы строится на ощущении того, что антагонист Дракулы предпринимает битву против врага, чье существование как таковое имеет основание для проверки. Подобно тому, как Холли Мартинс быстро обнаруживает себя в мире, который буквально и метафорически "сгущает" тьму над ним. Все время, пока Вену разрушают во время второй мировой войны, он сталкивается с городом обваливающихся зданий и "темной неясности" - перенимая соответствующую фразу из речи Баркера в "Дракуле". Более важно, что Рид снимает "Третьего человека" так, что ощущение внутреннего дисбаланса дополняет визуальный образ руин: "Большинство кадров [...] снабжены титрами, а не дают непосредственной передачи; они наводят на мысль о мире без порядка. Это фантастический, искривленный угол зрения. Широкоугольные линзы искривляют лица и окружающую обстановку. Причудливое освещение превращает город в экспрессионистический кошмар" (Эльберт, "Третий человек"). Экспрессионистское настроение "Третьего человека" не только напоминает работу Мурнау и Вина, но также соединяет фильм с чертами кошмара "Дракулы", особенно с образом "неровной линии на фоне залитого лунным светом неба". Вкратце, атмосфера и "Дракулы" и "Третьего человека" - атмосфера угнетенности и упадка, особенно это касается фильма. Таким образом, на фоне типологически сопоставимых декораций, схожей окружающей обстановки, Стокер и Рид раскрывают своих главных героев.
2. Дверные проемы Интересно, что первое появление Дракулы и Гарри Лайма в соответствующих историях весьма характерно – они стоят в дверных проемах. (На деле, в самом начале Дракула появляется замаскированным как водитель коляски, а Лайм первоначально появляется в кадре, снятом сверху, как один из трех неразличимых героев, которые встречаются на мосту, - но в роли самих себя, в своем естественном обличии герои появляются именно в дверных проемах). Более важно то, что эти дверные проемы обладают символической значимостью в отношении характеристики главных героев. В "Дракуле", например, граф приветствует Харкера в воротах замка и упрашивает его зайти: "Добро пожаловать в мой дом! Входите свободно и по своей воле!" - он не сделал шагов навстречу мне, а стоял как вкопанный, как будто он превратился в камень, несмотря на приветственные жесты. В то мгновение, однако, как я переступил порог, он импульсивно дернулся вперед, протянул свою руку и крепко схватил мою с силой, которая заставила меня вздрогнуть; эффект от прикосновения был усилен тем, что рука казалась холодной как лед, скорее напоминая руку мертвеца, чем живого человека”. (40-41). В этом пассаже Харкер переходит из одной плосткости в другую. Дверной проем символизирует переход из живого мира в мир живой смерти, и как только пересекает порог, Харкер сжимает руку самого настоящего дьявола, который председательствует в этом царстве восставших из мертвых. В этом смысле, дверной проем метафорически отделяет Дракулу от мира Харкера: Дракула никогда не может покинуть свое царство восставших из мертвых также, как в "Потерянном рае" Сатана никогда не может убежать из ада. [6] Скорее всего, оба дьявола создают мир со своими особыми условиями и склоняют других присоединиться к ним. Подобным же образом, Лайм занимает псевдо-вампирское положение между жизнью и смертью. Он двигается сквозь улицы Вены "как демоническая сила" (Gomez, 335), и затем возвращается в свою преисподнюю сточных труб, его "таинственные появления и исчезновения" придают готический характер "Третьему человеку" (Gomez, 337). Только в этом смысле Лайм походит на Дракулу, который также таинственно появляется и исчезает по ходу новеллы. Более важно, однако, что дверной проем, в котором изначально появляется Лайм символически связывает его с идеей жестокого дьявола. Как указывает Сэймур Чатмэн, когда Лайм выбирается вверх из руин Вены, он представляет собой "галлюциногенную смесь Аль Капоне и Плутона" (191). Замечание Чатмэна особенно проницательно, для Лайма, который буквально походит на гангстера, подобного Аль Капоне, обладающего качествами образа представителя преступного мира. Когда он становится в дверной проем, его лицо с притворной улыбкой, освещенное косыми лучами рассвета, оказывается беззащитно перед взглядом Мартинса; это выглядит словно он, как и Дракула, задержался на пороге мира, в который не может войти, - живого мира. Мартинс, как и Харкер, пытается по своей воле последовать за Лаймом в тот последний мир, хотя сначала и не преуспевает в этом. Хотя он преследует Лайма в тягостной темноте, по мокрой дорожке, тем не менее, он видит на стене тень Лайма, большую, чем сам он в реальности; образ, который усиливает характеристику Лайма как "тени" и как "монстра". Более того, Лайм притягивает Мартинса как Дракула притягивает Харкера: с отвратительным, но неодолимым "магнетизмом" (Gribble) [10].бсолютная реальность Лайма впоследствии заставляет Мартинса узнать о нем больше, хотя то, что Мартинс познаёт - это сфера ужаса. После того, как он оправился от своего расстройства, Маркер чувствует во многом похожее "влечение" по отношению к Дракуле. Действительно, и Мартинс и Баркер должны уничтожить своих дьяволов, чтобы освободить себя от их омерзительной хватки.
3. Дитя ночи Интересно, что и Дракула и Лайм появляются преимущественно, но не только, в ночи. Оба героя требуют покрова темноты, хотя и по разным причинам. Сила Дракулы достигает пика ночью: "Его сила кончалась, как и все подобные проявления зла, с приходом дня" (Stoker, 244). Однако, в отличие от графа Орлока Мурнау, Дракула Стокера отнюдь не испаряется с первыми лучами утренней зари. Фактически, Дракула более чем один раз, появляется в новелле днем. Например, после его возвращения в Лондон, Харкер во время прогулки со своей женой видит Дракулу при свете дня около Гайд-парка (183). В другой раз, когда Харкер, Д-р Сьюард, Д-р Ван Хельсинг и другие враги графа дожидаются его в его доме на Пикадилли, Дракула опять появляется днем. Тем не менее, Дракула остается более всего жутким в ночи, в то время, когда его силы, например, такие, как его способность изменять облик, достигают своего зенита. Лайм использует темноту ,чтобы с помощью нее скрыть свои передвижения за пределы второго Безирка, российского сектора Вены, единственного сектора, где он не разыскивается. [7] В этом смысле сила Лайма также достигает своей вершины ночью, поскольку для него, как и Дракулы, велика опасность быть схваченным именно пока светит солнце. Образно говоря, Лайм страдает по причине подобной же преграды, что и вампир. Действительно, в первой сцене, где он появляется при дневном свете, Лайм, разговаривая с Мартинсом, пока они едут по Пратер Вил, расположенном в российском секторе, замечает: "Мне нужно быть очень осторожным". Это "быть осторожным" означает двигаться по другим секторам оккупированной Вены только тогда, когда условия более благоприятны для маскировки. Однако даже более интересное сходство состоит в детских чертах обоих главных героев. Например, в "Дракуле", сразу перед выше представленной сценой на Пикадилли, Д-р Ван Хельсинг анализирует умственные способности Дракулы: "Относительно некоторых способностей ума он был, и есть, всего лишь ребенок; но он растет, и некоторые вещи, которые изначально были детскими, теперь принадлежат взрослому" (300). Критик Дэнис Фостер заходит так далеко, что называет Дракулу "Питером Пэном воскресших из мертвых, одним из потерянных мальчишек" (490). [8] Дело здесь в том, что Дракула обладает почти парадоксальным набором качеств. Другими словами, его "питерпэновский" взгляд на смерть помещен рядом с ужасом того метода, который он использует для того, чтобы обмануть смерть: "Дракула никогда не жалуется на то, что он вампир, на то, что живет вечно и питается свежей женщиной каждую ночь [...])" (Foster, 490). Лайм также, обладает парадоксальным набором, состоящим из детских качеств и тех черт, которые ужасают. Йозеф Гомез, например, называет его "эго-центричным, аморальным ребенком, потерянным в изменяющейся вселенной" (334). Роджер Эберт, обсуждая известное появление Лайма в дверном проеме, называет притворную улыбку на его лице "загадочной и дразнящей", подобная улыбка присуща "двум близким приятелям из колледжа [...] застуканным в то время как они затеяли безнравственную проказу" ("Третий человек"). Грэхам Грин также характеризует Лайма в новелле как подобного ребенку; фактически, Колонел Галлоуэй,[9] повествующий в качестве центрального героя, приводит мысли Мартинса, высказанные в отношении Лайма: "Он никогда не повзрослеет. Бесы Марлоу носили петарды, прикрепленные к их хвостам: дьявол был как Питер Пэн - он наделен ужасным и пугающим даром вечной молодости" (104). Как в Дракуле, это сочетание детскости и зла создает в Лайме ощущение "двойственной опасности" (Gribble). По общему признанию, новелла Грина делает большее ударение на "незрелости, ребячестве, неспособности сдерживать собственную жестокость" Лайма (Gribble). Однако эта сторона характера Лайма не потеряна и в фильме, а наоборот. Например, в то время, пока они едут по Пратер Вил с Мартинсом, Лайм рассуждает о людях как, если бы они были насекомыми, и тогда не осталось бы сомнений насчет степени его безнравственности – более того, он произносит это почти что с ангельской улыбкой.
4. Дегенерация "Беспощадный, эгоистичный, без следа доброты или жалости, человек, который стал одним из воскресших из мертвых по своему выбору, приведшему к дегенерации, бесчеловечному существованию [...]" (Frost, 8). Даже содержащийся в книге о вампирах, этот пассаж применим почти равно к Дракуле и Лайму. Оба страдают от "дегенерации", первый физически и морально, второй - морально. В книге "Вырождение" Макс Нордау описывает физические характеристики дегенерации, и они включают "дефект в развитии наружного уха" и "нарушения формы и расположения зубов" (392). Дракула безусловно обладает этими двумя характеристиками, Харкер описывает уши графа как "вялые и с исключительно острыми верхушками" (42-43), и он обращает внимание на "необычно острые белые зубы" графа", которые выдавались из-под губ (42). Добавьте к этим чертам другие странности графа, включая его длинные, острые ногти и волосы на его ладонях (43), и Дракула предстанет как прототипичный дегенерат в физическом плане. Однако более важной в отношении его схожести с Лаймом является моральная дегенерация. Нордау также описывает характеристики моральной дегенерации: "Чего не достает почти всем дегенератам, так это чувства морали и чувства того, что правильно и не правильно. Для них не существует ни закона, ни порядочности, ни благопристойности. Для того чтобы удовлетворить любой мгновенный порыв, или желание, или каприз, они совершают преступление и грешат с величайшим хладнокровием и самоуспокоенностью, и не понимают, что из-за них страдают другие люди ". (393) Надо сказать, Дракула не так хорошо соответствует последней части этого описания, как Лайм, Дракула осознает, что он причиняет вред. Например, прежде чем принудить Марию Харкер подвергнуться извращению причастия, в ходе которого он заставляет ее выпить крови из его груди, граф дразнит ее: "И так ты, как другие, направила бы свой разум против моего. Ты помогла бы этим людям травить меня и расстраивать мои планы! Ты знаешь сейчас, и они уже отчасти знают, и вскоре узнают полностью, что значит перебегать мне дорогу" (288). Несмотря на его понимание своего преступления - по сути, его стремление согрешить - Дракула остается дегенератом в моральном плане, учитывая отсутствие у него порядочности и благопристойности. Как обнаруживает сцена с Марией Харкер, Дракула не страдает угрызениями совести по какому бы то ни было поводу. Для него, люди в конечном счете, всего лишь средство. Его зло не знает границ. Лайм также использует людей, в конечном счете, только как средство. Морально деградировавший, как Дракула, Лайм не только не признает закона, порядочности и благопристойности, но также совершает свои преступления с "величайшим хладнокровием и самоуспокоенностью". Он ясно демонстрирует эти последние характерные особенности, например, во время представленной выше сцены на Пратер Вил с Мартинсом, который спрашивает Лайма о детях, жертвах пенициллиновой аферы Лайма: "Мартинс: Видели ли вы когда-нибудь какую-нибудь из своих жертв? Лайм: Вы знаете, я никогда не был уверен в отношении подобных вещей. Жертвы? Не будьте мелодраматичны, [открывает двери машины] Посмотрите сюда вниз. Будете ли вы действительно сожалеть, если одна из этих точек перестанет двигаться навсегда? Если я предложу вам 20 000 фунтов стрелингов за каждую точку, которая остановится, действительно ли вы, старина, прикажете мне остаться при моих деньгах? Или вы подсчитаете как много точек вы можете позволить себе пощадить? Без налогов на прибыль, старина. Без налогов на прибыль. Это единственный способ сегодня сэкономить деньги".
Невозмутимость Лайма по отношению к своим жертвам ясно демонстрирует его моральную деградацию. Более того, как морально деградировавший, он декларирует теоретически легитимность преступления; стремясь, в ходе философски звучащих напыщенных речей, доказать, что "добро" и "зло", добродетель и порок, различаются произвольно" (Nordau, 393). В заключение этого, Лайм говорит Мартинсу в той же сцене, что "никто не думает о людях. Правительства не думают. Почему же мы должны? Они говорят о народе и пролетариате; я говорю о простофилях и балбесах. Это то же самое". На вопрос Мартинса верит ли Лайм в Бога тот отвечает: "Я верю в Бога и милосердие, и тому подобное. Но мертвые – самые счастливые. Они не много теряют здесь, бедняги". Лайм демонстрирует даже большее хладнокровие и самоуспокоенность, чем Дракула; его, как и графа, очевидно, не заботят люди в качестве людей. В конце концов, используя выражения Фроста, оба они ведут бесчеловечное существование, самостоятельно выбрав путь воскресшего из мертвых.
5 Так говорил Заратустра Ирония заключается в том, что и Дракула и Лайм принимают позицию превосходства перед человечеством несмотря на - а возможно даже именно по причине - их дегенеративность. Каждый излагает ницшеанскую точку зрения по отношению к человечеству, потому что каждый искренне верит, что он занимает привилегированную позицию, которая происходит из превосходящей возможности. Прежде чем он вынуждает Мину Харкер выпить его кровь, Дракула, например, добавляет к своей речи слова, принижающие его противников: "Пока они пытаются с помощью разума противостоять мне - мне, тому, кто командовал нациями, строил интригу для них, боролся за них, сотни лет до их рождения - я раскрыл их заговор" (288). Подобно тому же, в доме на Пикадилли Дракула разглагольствует, противостоя Харкеру и его компании: "Вы думаете помешать мне, вы - с вашими жалким лицами, без исключений, как овцы у мясника. Вы должны сожалеть теперь, каждый из вас! Вы думаете, не оставили мне места, где бы я мог укрыться; но у меня их много. Мое мщение только начинается! Я распространю его в веках, время только на моей стороне. Ваши девушки, которых вы все любите, уже мои; и через них вы и остальные должны стать моими - мои твари, исполняющие мои приказания и делающие за меня черную работу, когда я хочу поесть. Ба!" (304). Как героическая фигура из прошлого, как тот, кто имеет историю великих деяний, Дракула смотрит с презрением на бросающего вызов ему: его прошлое свидетельствует о его превосходстве. Действительно, он обращается к Харкеру и другим своим врагам, как к "овцам", "тварям" и "чернорабочим", - как он обзывает их. В то время как Лайм смотрит на "точки" и видит деньги, Дракула смотрит на "овец" и видит добычу. Его интерес к людям заключается не деньгах, но это равно безразличный и снисходительный взгляд. Его тон напоминает тон "супермена" (сверхчеловека) [12]. Как и Дракула, Лайм также принимает позицию "супермена" (сверхчеловека). С самой высокой точки на Пратер Вил, он обращается, "с риторической речью в стиле Заратустры" (Gomez, 339), к людям внизу, как "к тем точкам". Более того, чтобы оправдать свою позицию, он пытается провести аналогию между собой и тоталитарными правительствами, соотнося себя с "диктаторами, которые обращаются с людьми как с "массой", которой можно манипулировать: он поддается той аморальности, которой придерживались Гитлер и Сталин" (Rea, 162). Однако, точка зрения Лайма, как и Дракулы, в конце концов проявляется немного больше, чем просто риторическая, говоря словами Заратустры, это может звучать так: "Нигилистическая точка зрения на жизнь, которую излагает Гарри Лайм [...] частично относится к области софистики, частично нацелена на то, чтобы дать рациональное объяснение его жадности и безжалостности [...]” (Gribble). Весьма иронично то, что Лайм недостойно умирает в канализации под Веной, под ногами "тех точек", которые он видел наверху Пратер Вил. Подобным же образом, Дракула умирает на руках своей "овцы", той "твари", которая выполняла его приказания и была его "чернорабочим". Гарри Лайм не вампир. Он даже не призрак. Однако при обрисовке Лайма, Кэрол Рид схватил характерные черты, ассоциирующиеся с Дракулой, черты, которые пронизали готическую литературу и кинематографию, благодаря влиянию новеллы Стокера и "Носферату" Мурнау. Правда Рид использовал готику только метафорически, но однако он сотворил в "Третьем человеке" те настроение и атмосферу, которые наделили ревенанта вампирскими чертами. В двух словах, в Гарри Лайме тема ревенанта, в частности вампира-ревенантa, развивается в таком аспекте, который Полидори даже не мог себе представить: какова будет степень его жестокости, как задуманный кровопийца станет беспощадным, здесь выводится задуманный преступник, который тем не менее остается "воскрешенным из мертвых".
Примечания 1 Байрон, “Август Дарвелл” (Byron, "Augustus Darvell”), "Вампир и другие жуткие рассказы", под ред. Роберта Моррисона и Криса Балдбика, (" The Vampyre and Other Tales of the Macabre, ed. Robert Morrison and Chris Baldick (Oxford: Oxford UP, 1998) 249). 2 см. Frost 24. 3 Роджер Эберт называет “Носферату” “историей Дракулы, прежде того, как он был погребен заживо в клише [sic], шутках, телепародиях, мультфильмах и более чем в 30 других фильмах” (“Носферату”). 4 Мурнау и другие немецкие режиссеры оказали влияние на Рид, однако. См. “Фильмы Кэрол Рид” (Robert F. Moss, The Films of Carol Reed (New York: Columbia UP, 1987) 265). 5 Критик Фрэнк утверждает, что режиссер одновременно почитает и эстетические правила, установленные традицией и модернизирует их, чтобы сделать работу, которая пользовалась бы успехом как у критиков, так и у простых зрителей. В отношении к теме ревенанта-вампира, Рид “модернизировал” формулу, сделав своего героя ревенантом-вампиром лишь в переносном смысле, и он является по версии режиссера не дворянином, а преступником. См. статью “Что это значит, мистер Холмс?” Манкела (Manchel, "What Does It Mean, Mr. Holmes?" Literature/Film Quarterly 31.1 (2003): 71). 6 См. “Джон Мильтон, “Потерянный рай”, Нортонская антология мировых шедевров”, выпуск 7’1’, том 1, под ред. Сары Лоуэлл (John Milton, Paradise Lost, The Norton Anthology of World Masterpieces, 7'1' ed., Vol. 1, ed. Sarah Lawall (New York: W. W. Norton, 1999) 2199). 7 Российский сектор для Лайма то же, что Трансильвапния для Дракулы: оба героя пытаются убежать во имя спасения в эти воображаемые безопасные места, когда враги преследуют их 8 Фостер замечает, что фильм 1987 года “Потерянные мальчишки” также связывает вампиризм и Питера Пэна, см. Foster 49On. 9 В новелле Грина Галлоуэй имеет звание полковника, а не майора. 10 Опасность Дракулы менее амбивалентна, чем Лайма, в частности оттого, что Дракула атакует свои жертвы, как животное, и высасывает их кровь. Тем не менее, Дракула выигрывает за счет облагораживания образа вампира Полидори: “Историческая и мифологическая важность “Вампира” Полидори лежит в радикальной коррекции фольклорных недостатков, особенно это касается возвышения “носферату” (восставшего из мертвых) до титула высокого социального класса” (Morrison and Baldick xii). Особенно в начале новеллы, титул Дракулы и его манера поведения способствуют созданию неверного впечатления об опасности, исходящей от него, по тому же принципу действует и его детскость, непосредственность позже в новелле. 11 Мурнау акцентирует эти характеристики в “Носферату”: “Граф [Орлок] в исполнении [Макса] Шрека больше похож на животное, чем на человеческое существо; художественная дирекция под управлением напарника Мурнау, Альбина Грау, наделяет его ушами летучей мыши, когтеобразными [sic] ногтями и клыками посередине рта, похожими на клыки грызунов […]" (Ebert, Nosferatu). 12 “Супермен” (сверхчеловек): человек, который достигает цели за счет таких преимущественных качеств, как беспощадный эгоизм, превосходящие физическая сила, умения и сила воли. “Супермен” - определение 3, Новый полный универсальный словарь Вебстер ("Superman," def. 3, Webster's New Universal Unabridged Dictionary, 1992). |